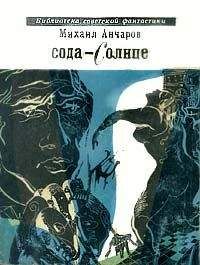— Как начнется… то, что я увижу… как? — ученый почти не дышал.
— Вы увидите третий этаж жилого дома. Там будет раздаваться очень хорошая музыка… — сказал приезжий.
Это был третий этаж жилого дома. Там очень хорошая музыка раздавалась. Потому что за роялем, прекрасным роялем, кстати сказать, сидел Людвиг Бетховен, плотный человек. Волосы у него были соль с перцем, начинали седеть, и лицо красноватое, и глаза пламенно-голубые. Вот какой он был, не последний в своем деле музыкант, печальный человек.
Потом он не стал больше играть, а когда последний аккорд повис — он его педалью поддержал постановил в воздухе, а потом к нему еще присоединил один. Перед ним на подставке для нот стояло письмо, и он это письмо брал аккордами и не давал ему гаснуть, и получалось, что это начало Лунной, только аккорд не переходил в аккорд, а как будто Людвиг кирпичи клал, возводил стену.
И тут он подумал и сказал так:
— Кто-то окрестил эту сонату Лунной… а я, старый дурак, с этим согласился. И еще он подумал:
— А почему бы и нет? Люди хотят, чтобы название будило память о прошлом, и тогда тот, кого чет с нами, приходит и встает рядом.
Он взял письмо и прочел вслух:
«Я приехала… и теперь мы с тобой в одном городе, Людвиг»
— Но люди находятся вместе не только тогда, когда они рядом, — сказал он. — Поздно, Джульетта, поздно.
И тут он взял и порвал письмо на мелкие клочки, а потом попытался их сложить вместе и немножко повозился с клочками, потом покряхтел и смахнул их в ладонь и не знал, куда девать — выбросить не решался.
— Господин Бетховен! — закричал человек, входя в комнату. — Пошел второй час, как вы музыку играете! Что же вы мне ответа не даете на письмо, вы, наверно, хотите, чтобы я дожидался до ночи?
Бетховен обернулся и посмотрел на этого человека.
— Ответа не будет. Вот тебе за труды. И не кричи так. Я прекрасно слышу.
Посыльный взял деньги и пошел к дверям.
— Постой, — сказал Бетховен. — Иди сюда. У меня не выходит финал. Вот послушай, — и он стал укладывать аккорды, как будто стенку строил. — Говорят, что это Лунная соната. Это неверно. Вот первая часть — смотри. Это мрак, это предчувствие горя. А вот вторая часть — это описание горя… понимаешь? — Бетховен взял посыльного за руку и заглянул ему в лицо. Бетховен как огромный седой новорожденный — голубые пламенные глаза и волосы в сером порохе. — Я лучше пойду, — сказал малый и, вырвав руку, ушел из комнаты.
А Бетховен стал опять укладывать аккорды. И заговорил громко, потому что уже давно врал, что хорошо слышит. Ему было очень страшно.
— Прошлое словно гиря повисло на моей душе. Но прошлое родит слезливую музыку… Настоящее родит трезвую прозу, и только будущее родит мечту — так я написал. Но где взять это будущее?
Он оглянулся.
Все лежит вперемешку в этой комнате. Партитуры, рубахи, носки, книги. Он стряхнул с ладони бумажные комочки, оперся тяжело на отставленное колено и опустил голову. Потом вздохнул, отыскал цилиндр и вышел из дому.
…Он шел мимо столиков пивного зала, стоявших на улице.
— Мальчик, стул господину Бетховену! — крикнул хозяин и понес ему кружку пива, и все стали оглядываться, и ему это было все равно, потому что он был Бетховен.
— У меня сегодня нет денег, Филипп, — сказал он.
— Я на вас зарабатываю, — наклонившись, тихо сказал хозяин. — Сюда приходят из-за вас.
— Не слышу, — сказал Бетховен.
Хозяин махнул рукой и поставил пиво на стол.
— Вы сегодня бездельничаете, Людвиг, — сказал худой человек за соседним столом.
— Здравствуй, здравствуй, — рассеянно ответил Бетховен, глядя в сторону.
— Что? Не идет? — спросил человек, наклонившись. — Вот это? — и он пошевелил пальцами в воздухе, как будто играл гамму. — Нет вдохновения? Боги нас оставили?
— Боги нас оставляют, когда мы отворачиваемся от них, — сказал Бетховен.
— Боги нас оставляют, когда у нас нет денег, — ответил худой. — Моя жена хорошо это знала… Теперь это знает дочка.
— Молчи, пьяница, — сказал Бетховен. — Вдохновение уходит от нас, когда нет ясной мысли. Вдохновение не родится, когда видишь, что мысль твоя ложная.
— Чепуха, Людвиг. Вдохновение и мысль — что между ними общего? Вдохновение — это когда сам не знаешь, почему пишется. Твоя музыка или мои стихи — безразлично. И тебе это известно лучше, чем мне.
— Ты прав. Но вдохновляются все-таки истиной, а не ложью… Вот ты говоришь — сядь и импровизируй.
— Я этого не говорил.
— Нет, говорил! Я же слышал! Да, я могу сесть за рояль и заиграть. И так поступал не только я. Давно известно, что величайшие пианисты были и величайшими импровизаторами. Но как они играли? Не так, как нынешние, которые бегают по клавиатуре с заученными пассажами — вот так: пуч-пуч-пуч — что это означает? Ничего! Истинные виртуозы давали в своей игре нечто цельное. Связное. Такая импровизация — это искусство! Вот что значит импровизация. Все остальное ничего не стоит!
Он теребил ухо, как будто оно было заложено ватой.
Он встал со стула. Худой оглянулся на столики, за которыми сидели внимательные слушатели.
— Пей, Людвиг, — сказал он.
— Замолчи! Истинное сочинение — это поиски мелькнувшей и ускользающей мысли. Я преследую ее. Я схватываю ее и вижу, как она бежит и пропадает в кипящей массе. Я с возобновленной страстью схватываю ее, я не могу больше отделиться от нее, мне нужно множить ее по всем модуляциям, — он опять сел. — Так пишут музыку и так выигрывают сражения, безразлично. Вот что такое вдохновение.
— Это у тебя от Наполеона. Это модно. Особенно когда п городе полно французов. Которых ты, впрочем, считаешь освободителями… — сказал худой. — Ты же посвятил Наполеону свою музыку, не правда ли?
— Да, л ему посвятил свою работу, — тихо сказал Бетховен. — Но я думал, что он бог… А он оказался жалким человеком и объявил себя императором! — закричал Бетховен и стукнул кулаком по столу. — На нем сиял венец свободы, а он позарился на королевские обноски со всей Европы! Он продал Великую революцию! Я порвал свое посвящение!
— Осторожно. Французы, — сказал худой. — Но говорите так громко. Вы достаточно известны.
Проходит щеголь, французский офицер, весь в перьях, молодой и сильный. Бетховен обернулся, погрозил ему кулаком и сказал громко, потому что он так привык:
— Если бы я был генералом и понимал и стратегии столько же, сколько в контрапункте, тогда бы я задал вам работу!
Все в страхе замерли, но француз пожал плечами и ушел.