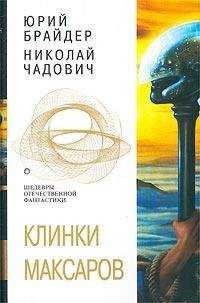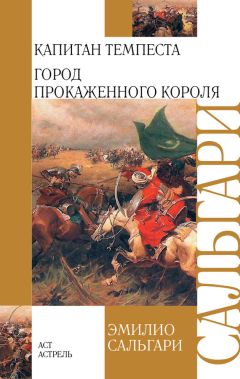Лучший Друг дернулся, как от удара, и обернувшись на мой голос, стал шарить взглядом по толпе. Он явно не ожидал такого поворота событий. Какая-то ошибка вкралась в его расчеты.
– Не сметь! – взвизгнул он. – Не сметь подпускать к Престолу самозванца!
– Не тебе судить, самозванец он или нет! – возразил Яган. – Любой человек имеет право на испытание.
– Он осквернит Реликвии! Он испоганит Письмена! Он не достоин коснуться даже того места, где стоял Тимофей!
– Нам следует поступить по закону, – сказал один из Друзей, и я по голосу узнал Гердана. – Заветы Тимофея требуют, чтобы испытанию был подвергнут каждый желающий, пусть даже он выглядит сумасшедшим. Не так ли, братцы?
Никто из братцев, топтавшихся на Престоле, открыто не выразил согласия с Герданом, но никто и не возразил ему.
Я был уже совсем рядом с лестницей. Дурманящий, ослепительный восторг, знакомый всем тем, кто под барабанную дробь шел в сомкнутом строю на неприятельские редуты, кому случалось рисковать жизнью на войне или охоте, кто пил вино среди чумного города, гнал меня сквозь бушующую толпу. Тело мое словно утратило болевую чувствительность – я не ощущал ни щипков, ни ударов. Многое из происшедшего в те минуты начисто стерлось из памяти, но я помню руки, протянутые ко мне со всех сторон; помню перекошенные лица, оскаленные рты, выпученные глаза; помню гвардейцев, застывших как статуи у подножия Престола (ни единый мускул на лицах, ни единый взгляд не выдал их отношения к происходящему); помню шершавые, грубо обтесанные лестничные ступени, по которым я взбирался на четвереньках; помню Друзей, которых впервые увидел так близко – сначала их ноги, потом животы, потом растерянные лица. Лучший Друг предпринял попытку сбросить меня вниз, но Яган встал между нами.
Замешательство готово было перейти в свалку, и еще неизвестно, кому это могло пойти на пользу. Надо отдать должное Лучшему Другу. Он опомнился первым. Сокрушительный удар, которым должен был завершиться бой, пришелся в пустоту, и он сразу ушел в глухую защиту, намереваясь измотать нас финтами и ложными выпадами.
– Кто ты, братец? – как ни в чем не бывало спросил он. – И что привело тебя сюда?
– Я человек из рода Тимофея. А пришел сюда, чтобы занять его место. – Едва эти слова были произнесены, как сотни глоток подхватили их и разнесли в разные концы площади.
– Ты хочешь сказать, что тебя прислал Тимофей? – В вопросе Лучшего Друга был какой-то подвох. Он явно знал нечто такое, чего не знали другие. И я решил не кривить душой.
– Нет. Я даже никогда не видел его. Но он был уверен, что я должен прийти. И его надежды сбылись.
Наши глаза встретились, и я невольно содрогнулся. В этом тщедушном теле жила могучая, но увечная душа, все помыслы и устремления которой были сконцентрированы только на себе самой. Мир существовал для него только в том смысле, что он сам существовал в этом мире. Он единственный был наделен свободой воли, лишь он один мог испытывать боль, голод, страх и радость. Все остальные люди вокруг были не чем иным, как иллюзией. Они мешали ему, суетились где-то под ногами, путали планы, отвлекали от вечных истин. Их можно было без труда извести, уничтожить, а можно было оставить в том виде, как они есть. Нетрудно представить, что ощутил этот чистой воды эгоцентрик, когда события внезапно перестали подчиняться его воле и неодушевленный манекен, марионетка, лишь по нелепой случайности схожая обликом с человеком, вдруг встала вровень с ним.
И тем не менее он сумел овладеть собой, здраво оценил обстановку, изменил тактику. Он не стал экзаменовать меня в знании Настоящего Языка – видимо, был уже наслышан о моих способностях. Не рискнул он также прибегнуть к гаданию на Письменах – любая осечка могла погубить его. Поэтому Лучший Друг решил сразу использовать свой главный шанс – Испытание.
Никто еще не сумел пройти его, и я не должен был стать исключением. Дьявольская проницательность подсказывала ему – нельзя решить задачу, условия которой неизвестны. Что же такое необыкновенное должен был совершить преемник Тимофея, дабы все сразу уверовали в его подлинность? Все! Сразу! И без колебаний!
– Итак, приступим! – сказал Лучший Друг голосом сухим и деловитым. – Смотрите, Друзья! Смотрите, Судьи! Смотрите, Знающие Письмена! Смотрите, народ! Испытание начинается!
С предельной осторожностью короб был подан наверх и после пышных, малопонятных для меня церемоний – вскрыт. Но еще раньше короба на Престоле появились палач и его ассистенты с полным набором допросных орудий. Гердан, занявший стратегически важную позицию в центре Престола, присматривал одновременно и за мной, и за Лучшим Другом – ждал, чья возьмет. Не хочу винить его в двурушничестве, такие уж тут бытовали нравы. Он и так сделал для меня более чем достаточно – и от наемных убийц спас, и доброе слово замолвил, когда все висело на волоске.
– Иди! Иди же! Подойди к реликвиям! – крикнул мне Яган.
Несколько дюжих приспешников палача тут же оттерли его в сторону.
Я приблизился к коробу. На его дне лежала засаленная телогрейка, давно утратившая свой первоначальный цвет. Нечто подобное я и ожидал. Обувка здесь долго не выдержит, штаны и исподнее давным-давно превратились в лохмотья, сохраниться могли только пальто или бушлат, редко надеваемые по причине мягкого климата Вершени.
– Испытание началось! – звенящим голосом напомнил мне Лучший Друг. – Действуй. Мы ждем.
Я взял телогрейку в руки и встряхнул ее. В нос ударил затхлый, тлетворный запах, столбом взметнулась пыль. Что делать дальше? Элементарная логика подсказывает, что я должен надеть телогрейку на себя. Но неужели никто раньше не додумался до этого? Вряд ли – руки сами тянутся в рукава. Тут и дурак догадается. В чем же загадка? Я еще раз внимательно осмотрел телогрейку. Два кармана, в левом – дыра. В подкладке нет ничего, кроме крошек. Никаких штампов, никаких подписей. Если что-то и было, то давным-давно стерлось. От вешалки и следа не осталось. Пять пуговиц, пять петель для них, нижняя пуговица висит на ниточке. Все.
– Не надейся, что Испытание может продолжаться до бесконечности, – сказал Лучший Друг. Скрытое торжество ощущалось в его голосе. – Время твое истекает.
Все во мне словно выгорело – и злой восторг, и жажда борьбы, и жертвенное вдохновение. Я ощущал себя маленьким, опустошенным, постаревшим на много-много лет. Ничего не хотелось мне, даже жить. Уж скорей бы наступил конец этого жуткого спектакля.
Действуя совершенно машинально, я натянул телогрейку. Полы ее едва прикрывали мой пуп, зато в плечах оставался приличный запас. Пятьдесят четвертый размер, второй рост, подумал я. И еще я подумал: неужели эта дурацкая мысль будет последней мыслью в моей жизни?