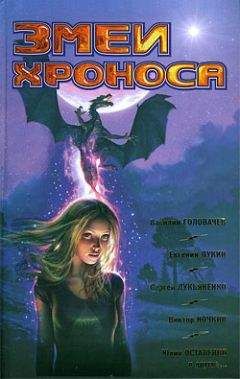Не нужно мне было говорить о том, что это важно. Упомянул бы вскользь, и Соня, возможно, сразу бы и вспомнила. А теперь... Она смотрела на меня настороженно, она ощутила в вопросе подвох, хотя и не подозревала, какой именно.
– Не знаю, – сказала она, отвернувшись. – Не помню.
– Был, – сказал я. – Поймите, Соня, для Алика сейчас это совершенно все равно. Для Миши – тем более, прошло три года.
– Тогда почему вы спрашиваете?
– Для себя, – сказал я, практически не погрешив против истины, и потому, должно быть, голос мой звучал вполне убедительно. – Просто я хочу знать, какой была последняя точка в их отношениях.
Именно так. Последняя точка. Мне известно, что это означает, а Соня пусть понимает как хочет.
– Да, Миша ездил к Алику перед отлетом, – сказала она. – О чем они говорили – не знаю. Вернулся Миша в расстроенных чувствах в первом часу ночи. А может, даже во втором, не скажу точно... Самолет у него был в десять, он должен был хоть немного поспать, я сказала, что не нужно было ему так долго сидеть у Алика, а он...
– Да? – напомнил я о себе, потому что Соня замолчала, не закончив фразы, и долго смотрела в стену перед собой.
– Не помню, – сказала Соня. – Мы легли спать, утром Миша улетел в Москву, я его не видела полгода, это был трудный для нас период.
Для Алика тоже, но это ни Мишу, ни тем более Соню не интересовало ни в малейшей степени.
– Он что-то сказал, когда вернулся... Как-то ведь он прокомментировал свой разговор с Аликом?
– Какая разница? Три года...
– Да-да, – сказал я с излишним, может быть, нетерпением. – Три года, все забыто. Но все-таки. Он вернулся в расстроенных чувствах, говорите вы... и сказал...
– Ну, что-то вроде: «Господи, какой дурак... Как я с ним столько лет вместе работал... Да таких надо убивать в младенчестве, чтобы другим не мешали»... Что-то такое.
– Понятно, – сказал я.
Мне действительно многое стало понятно. Я встал.
– Извините, Соня, – сказал я. – Мои вопросы наверняка показались вам глупыми. «Господи, – возможно, подумали вы, – какой дурак, зачем он спрашивает, какое это имеет значение»...
– Дурака вычеркните, – слабо улыбнулась Соня. – А остальное вы угадали правильно.
* * *
Гале я позвонил, сев за руль и еще не включив двигатель.
– Все тихо, – сказала жена. – То есть... Извини, говорить не могу, много покупателей. Потом, хорошо?
Много покупателей – это нормально. Видимо, Учитель Гале не докучал, а остальное не важно.
Я набрал номер Иры, но мобильный у нее был занят, а звонить на квартирный телефон мне почему-то не хотелось, мало ли что там сейчас происходит, может, опять приехала полиция. Это было глупо, конечно, но мобильная связь успела приучить меня к мысли, что связаться с любым человеком старше десяти—двенадцати лет можно по его личному телефону, обычные же проводные линии – нечто вроде паровозов, которые вроде и ездят кое-где по проселочным железным дорогам, но в цивилизованном мире сданы в утиль. Свою телефонную линию я закрыл в прошлом году – зачем платить лишние деньги? – и мне казалось, что остальное человечество поступило так же.
Пока я пытался связаться с Ирой, мне несколько раз звонили, и я наконец посмотрел, кто это ко мне пробивался. Номер был незнакомым, и я перезвонил, предположив, что звонит кто-то из моих студентов, чтобы получить консультацию или договориться о сдаче контрольной. Мужской голос, назвавший меня по имени, я сначала не узнал – все-таки уже месяцев пять мы не общались.
– Матвей? – произнес голос на иврите. – Орит сказала, что ты мне звонил утром, это соответствует истине?
– Соответствует, – сказал я. Один лишь Шауль Бардана, среди всех моих знакомых, изъяснялся на своем родном языке с такой изысканной правильностью, остальные не то чтобы коверкали язык предков и Торы, но просто не придавали значения чистоте речи, и только поговорив с Шаулем, я начинал ощущать реальную разницу между «высоким ивритом» и языком улицы, рынка, супермаркета, языком, на котором говорил почти весь Израиль, и уж тем более – «русские» евреи, выходцы из бывшего СССР.
– У тебя ко мне какое-то неотложное дело? – продолжал Шауль. – Если нет, то извини, я не смогу уделить тебе много времени, через шесть минут продолжится заседание, на котором я обязан присутствовать, и мне за это время нужно успеть выпить кофе.
Странное заседание, где кофе приходится пить в перерыве, а не во время докладов и обсуждений. Впрочем, меня это не касалось, и я сказал:
– Я хотел бы поговорить с тобой об Алексе Гринберге, убитом вчера вечером.
Последовавшее за моими словами очень долгое молчание заставило меня подумать о том, что Шауля я скорее всего заподозрил напрасно – похоже, он и вспомнить не мог, кто такой Алекс Гринберг. Однако фраза, которую Шауль произнес после долгого молчания, вернула меня к реальности и поставила господина Бардану во главе списка подозреваемых.
– Вчера весь вечер и половину ночи, – сказал он, – я провел на вечеринке у заместителя министра Орена Каца, тому есть двадцать шесть совершенно надежных свидетелей. Поэтому, что бы ни произошло вчера с господином Гринбергом, я не могу иметь к этому никакого касательства.
Неужели во время долгой паузы он подсчитывал в уме, сколько гостей присутствовало на вечеринке у заместителя министра? А что праздновали-то?
– А что праздновали? – задал я глупый вопрос, поскольку слова Шауля совершенно выбили меня из колеи.
– Если ты смотришь новости по телевизору, – объяснил Шауль, – то знаешь, конечно, что вчера кнессет принял в первом чтении поправку к закону о долговых обязательствах Общеизраильского Кибуцного Движения. Извини, Матвей, если ты позволишь, я все-таки налью себе кофе и...
– Нам нужно поговорить, – не очень вежливо перебил я главного подозреваемого. – Ты можешь позвонить мне, когда закончится заседание?
– Могу, – сказал он не очень внятно, видимо, наливал уже себе кофе. – Но не смогу долго разговаривать, потому что в пять часов мне надлежит быть на приеме в канцелярии премьер-министра.
Конечно. Бардана теперь присутствует на всех приемах, заседаниях, обедах, ужинах, встречах и прощаниях. Можно было подумать, что он собирался баллотироваться в кнессет, хотя на самом деле служил всего лишь референтом у господина заместителя министра сельского хозяйства Орена Каца, и если должность самого Каца была, на мой взгляд, чистой синекурой и типичным политическим назначением, то должность, которую занимал Бардана, была синекурой вдвойне, и, возможно, именно поэтому Шауль так старательно изображал непрерывное служебное рвение – попросту боялся, что кто-нибудь в ведомстве государственного контролера догадается о полной ненужности всего, что делал (или делал вид, что делал) господин референт Бардана.