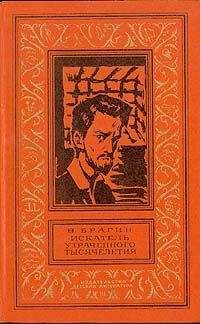Какой таинственный процесс, вызванный мелодией моей флейты, происходил в клетках иван-чая?
В клетках!!
И тогда-то я подумал: а не сходны ли клетки моего организма и растения? И не сможет ли человек жить, как секвойя, тысячу лет, если заставить клетку растения служить человеку?
Клетка! Клетка тысячелетнего растения должна вернуть утраченную человеком тысячелетнюю жизнь.
Но грохот... удар пушки... разрыв бомбы... Я все забыл.
И слава тебе, восход солнца в джунглях Гвианы, где удар барабана отозвался грохотом разрыва в Севастополе. И воскресла, ожила в памяти мелодия, под которую рос куст иван-чая.
Что еще было со мной в день отплытия из Гвианы?
Припоминаю.
Вернулся из джунглей. Постучался в дом доктора Лорена.
Дверь открылась.
- Здравствуйте, Вотрен, - сказал я, едва переступив порог квартиры тюремного врача Ги де Лорена.
- А! Поздравляю! Наконец догадался, искатель трав Веригин. Еще несколько дней назад у вас была возможность назвать меня этим именем.
- Вы же сами, Вотрен, отпустили меня в джунгли лечить больного Ржевусского.
- И вы об этом жалеете?
- Врач никогда не жалеет, что вылечил больного. Но скажите прямо, - взмолился я, - где у вас спрятан Рамо? Он еще жив?
Ги де Лорен молчал.
- Неужели умер?
Ги де Лорен неожиданно расхохотался:
- Довольно игры. Рамо жив. И он не так далеко отсюда.
Ги де Лорен кивнул Сэму. Негр тотчас распахнул дверь, спрятанную под большим ковром.
И я увидел его. Того человека, ради которого переплыл океан. Увидел я измученного малярией Феликса Рамо, которого сберегли в тропическом лесу такие же беглые несчастные люди, как и он, и тайно привезли в дом тюремного врача Ги де Лорена, человека большой души.
- Вы сдали экзамен на честного человека перед джунглями и передо мной, дорогой Веригин. Сэм и ваш пациент Ржевусский были свидетелями вашей человечности. Понятно? А теперь выкладывайте вашу хину. Мой запас для Рамо истощился. Ну же, придите в себя, дорогой Веригин, недогадливый искатель волшебных трав.
Я подошел к постели Феликса Рамо. Он спал.
Слышно было, как тяжело он дышит. Озноб сменился жаром. Лицо Феликса то бледнело, то краснело.
- Вот хины не хватало, - продолжал тюремный врач. - Губернатор, отпуская пакетик хины, тут же посылал чиновников: посмотрите на арестанта, ради которого Лорен требует порошок. Я мог невольно выдать этого беднягу Рамо. Крокодилы его пожалели, стража промахнулась, а я мог невольно выдать его.
Я тронул Рамо за плечо. Больной проснулся. Обвел глазами комнату. Взгляд его остановился на мне.
- Не бойтесь меня, - шепнул я. - Вот. Возьмите. - И протянул старый бархатный альбом.
На лице Феликса отразилось недоумение и напряжение, словно он силился что-то понять. И не мог. И нерешительно протянул руку к альбому с музыкой.
- Рамо, меня прислала ваша мать, мадам Жермен.
- Нет! Нет! Это сон, - пробормотал Рамо.
И, словно в забытьи, стал ощупывать потертый шелковистый ворс на переплете альбома. Глаза его были полузакрыты. Прозрачные, ослабевшие пальцы исхудалых рук трощли, поглаживали, скользили по переплету альбома.
Постепенно лицо Феликса стало проясняться. Он крепко прижал к себе альбом, где были рисунки, сделанные когдато рукой его отца. Стал бережно разгибать слепившиеся листы альбома.
- Доктор! - Больной приподнялся, сел. - Тут мое детство! Это встреча с детством! Я ничего не понимаю. Объясните мне: что все это значит? Как попал сюда этот...
- Вам нельзя много разговаривать! - прервал больного Ги де Лорен. - На сегодня довольно. Извольте лечь. Завтра все узнаете.
Рамо послушно лег на подушку, не выпуская из рук альбома. И заснул.
На всю жизнь я запомнил счастливое исхудалое лицо Феликса Рамо. Он спал, держа альбом, как ребенок - любимую куклу или плюшевого медведя.
Но надо было торопиться. Шхуна "Лютеция" уходит из Кайенны.
Последние полчаса до отправления я пробыл у Феликса Рамо. Мы простились, как братья. Запас хины я передал доктору Ги де Лорену,
Был вечер.
- Я провожу вас до вашей шхуны, - сказал тюремный врач.
Мы шли и молчали. Боялись нарушить тишину. А на углу улицы, словно сговорившись, остановились и почему-то взглянули на небо. Небо было вразброс усыпано звездами. И я пошутил:
- Вот навести бы порядок на небе.
Мой спутник, думая о чем-то своем, проговорил:
- На небе свой порядок есть, а вот на нашей планете...
Мы сделали еще шаг, другой.
- Не провожайте меня, дорогой доктор... Я дойду до шхуны один.
В ночной тиши явственно разнесся грохот железной цепи, наматываемой на барабан.
- Слышите? Это ваша шхуна "Лютеция" уже выбирает якорь.
Неожиданно его лицо стало озабоченным, и он протянул мне какой-то документ.
Я прочел: "Пьер Ги де Лорен, уроженец Марселя... год рождения..."
- Вы? Мне??
- Угадали. Если понадобится, то Ги де Лорен в вашем лице будет ходить по Москве. - И он весело рассмеялся.
Я обнял его.
- Дорогой Вотрен... - Это все, что я смог сказать.
Лорен похлопал меня по плечу:
- Ну-ну, успокойтесь. Только не делайте в море никаких опытов. А то начнете с помощью ваших растворов превращать капитана в березу, и "Лютеция", чего доброго, пойдет ко дну.
Крепко расцеловав тюремного врача, я побежал к шхуне. Темным силуэтом рисовалась она под звездным небОхМ в океане.
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ В СЛАВСКЕ
Почерк доктора Климова особенно неразборчив. Листы были испещрены затеками и пятнами - на них сохранились лишь отдельные строчки. Больше недели я работал с лупой и восстановителями.
Из хаоса косых бледных букв, перечерков, темных пятен мне удалось извлечь описание последнего ночного прихода Веригина к своему другу в Славске.
Беседа доктора Климова и Веригина
(В пересказе автора)
Осенний ненастный вечер в захолустном городке Славске. Квартира доктора Климова. Густые сумерки.
- Моя задача, - говорил Веригин, - отнять у природы спрятанное ею тысячелетие.
- А где же оно спрятано? - спрашивал доктор Климов.
- В клетке растений. Секвойи. Баобаба. Конической сосны. Еще Радищев...
- Какой Радищев? - перебил Климов. - Ты говорил о растительной клетке - и вдруг Радищев.
- Да! Да! Гениальный создатель "Путешествия из Петербурга в Москву" догадался, открыл и сказал: "...растение есть существо живое, а может быть, и чувствительное, но чувствительность сия есть другого рода... хотя в растениях чувствительность не явна... но согласиться нельзя, чтобы обращение соков действовало в них по простым гидростатическим правилам. В них существует истинная жизнь". Так вот, доктор, продолжал Веригин. - Я научился понимать язык растений. Мне надо было договориться с растениями.