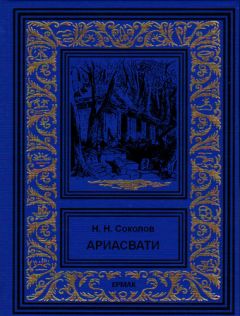Затем он подозвал лакея и приказал подать себе бараньих котлет и бутылку кларета.
— Ну-с, теперь расскажите мне, — продолжал он, чокаясь со мною стаканом кларета, — как поживает my little dear fatler, batenika[22], доктор Обадия Сименс? Собственно говоря, я на него ужасно зол: я писал к нему два раза и ни на одно письмо не получил ответа. Я знаю, что он меня любит по-прежнему и письмо, которое вы мне передали, меня отчасти примирило с ним, но эта славянская распущенность, это нежелание взять себя в руки, неохота пошевелить лишний раз пальцем без крайней нужды даже затем, чтобы написать две-три строки далекому другу — это очень несимпатичная расовая черта. Как хотите, это черта восточного некультурного человека! Меня до крайности злит в нем эта славянская лень, потому что я глубоко убежден, что, если бы только он взял себя в руки, его имя прогремело бы по целой Европе, как лучшего ориенталиста нашего времени. Неправда-ли? А он что делает? — Он пьет себе запоем чай да разрезывает новенькие книжки! Я знаю, он мне скажет, что следит за наукой, запасается сведениями, обогащает себя новыми идеями… Но какая нам польза от его познаний, от его новых идей, когда они сидят в его мозгу и не выходят наружу? О, попадись он мне на глаза, я бы его разбранил отлично! Я бы его так отделал, так отделал!.. Знаете, мистер Гречоу, я собираюсь написать к нему ругательное письмо на четырех листах большого формата и самым мелким почерком. Как вы думаете, подействует это на него?…
Как вы думаете, d-r Obadia Simens, он же почтеннейший Авдей Макарович, побудит ли этот отзыв вашего друга, доктора Грешама, который я нарочно буквально передаю, — побудит ли он вас окончить, наконец, то большое сочинение, о котором вы мне говорили и для которого, по вашим словам, собраны уже все материалы, составлен подробный план, которое даже набросано вчерне и теперь нуждается только в окончательной отделке? Что вы на это скажете?
Но что за милый человек этот Грешам! Я право от него в совершенном восторге, точно так же, как и от его милой, доброй жены, которая так меня обласкала, что я чувствую себя у них совершенно как дома. Верьте после этого тому, что рассказывают об английской чопорности! Правда, нашей слащавой маниловщины у них не встретишь, но зато найдешь такое гуманное, такое искреннее отношение к человеку, такое уважение к человеческой личности, что за отсутствие их не вознаградят никакие кулебяки с осетриной наших гостеприимных и хлебосольных москвичей. Целые дни я провожу у них, и если я опоздаю к завтраку, то или является посыльный, или сам мистер Грешам без церемонии берет меня под руку и ведет к мистрис Грешам извиняться, что заставил себя ждать с завтраком. После завтрака я сажусь в покойное кресло, беру к себе на колени маленькую Эми, синеглазую дочку Грешама, и рассказываю ей русские сказки об Иване царевиче и сером волке, и жар птице, и о бабе Яге. Могу похвастаться, что маленькая мисс слушает меня с большим удовольствием, хотя к сказочным чудесам относится скептически. Особенно ее смешит, как это баба Яга в ступе едет, пестом погоняет, метлою следы заметает… Что касается отца и матери, то они в совершенном восторге от моих сказок. Мистер Грешам восхищается их простодушной, первобытной поэзией и просит у меня позволения записать некоторые из них.
Но я замечаю, что, увлекшись идиллическими подробностями, я совсем позабыл сообщить вам о деле. Письмо мое уже приняло весьма почтенные размеры. Поэтому на уголке листа сообщу вам вкратце, что когда я рассказал, подробно о своем открытии, мистер Грешам очень им заинтересовался. "В каком, вероятно, восторге от этого d-r Сименс!" — сказал он. Несколько вечеров подряд он весьма внимательно рассматривал фотографические снимки с таблиц и, наконец, вчера за обедом решительно объявил, что в Европе мне делать нечего, но что нужно ехать в Индию, на Ценлон, где есть ученый пундит[23] Нарайян Гаутама Суами, который в этом деле мне будет полезнее всех филологов, санскритологов и ученых ориенталистов Европы. "Я дам вам к нему письмо, — сказал Грешам, — и вполне уверен, что Нарайян для меня сделает все, что может. Но так как он часто путешествует по Индии и часто забирается в глушь Гималайских монастырей то я дам вам другое письмо к одному богатому сингалезцу, Рами Сагибу, который живет недалеко от Коломбо в своем наследственном поместье: он очень дружен с Нарайяном и всегда знает, где его найти. Я часто адресую свои письма Рами Сагибу для передачи Нарайяну".
Вот вам, многоуважаемый Авдей Макарович, подробный отчет о моем путешествии по Европе и о его результатах. Буду ждать в Оксфорде, что вы посоветуете мне делать.
Весь ваш
Андрей Грачев.
Оксфорд Грачеву.
Взял отпуск. Еду с вами. Вуду ждать в Порт-Саиде. Справьтесь в русском консульстве.
Семенов.
Быстро бежит железнодорожный поезд почти по прямому направлению — с севера на юг. По сторонам дороги мелькают старинные городки с высокими узкими домами и еще более узкими улицами. Мелькают высокие старинные башни, зубчатые стены, мосты, голые скалы, зеленые виноградники, смеющиеся фермы. Все бежит, торопится показаться и исчезнуть, чтобы уступить место другому. В долинах начинают уже появляться лимонные рощи. На станциях, рядом с грубым гортанным немецким языком, слышится уже иная, плавная речь, и ухо с удовольствием ловит музыкальные звуки разговора. Иной раз, вслушиваясь в беседу своих соседей, Грачев с удивлением замечал, что они говорят вовсе не по итальянски, как ему казалось сначала, а славянским наречием, совершенно ему понятным, но до того плавным и мягким, что оно не уступало в музыкальности итальянскому языку.
Вот уже показался Триест. На скате плоскогорья темнеет старый город с его древними зданиями, новый город купцов и коммерсантов ушел к самому морю, растянулся вокруг небольших соседних бухт, в которых виднеется целый лес мачт и пароходных труб. Андрей Иванович стоит у окна вагона и смотрит, как быстро мелькают перед ним дома, улицы, площади, конторы. Громадные склады строевого леса, горы каменного угля, целые стада быков, хлеб, кофе, табак, бочки с сахаром, груды хлопка — все это мелькает перед ним, рябит в глазах, но ему некогда всматриваться в окружающую его кипучую деятельность: нужно попасть вовремя на отходящий в Порт-Саид пароход Австрийского Ллойда.
Около самого вокзала железной дороги находится новый порт; сооружения его тянутся почти на три версты. За изгибом мола св. Терезы, на выступе которого в море возвышается маяк, виднеется старая гавань. От железнодорожной площади до этого мола тянется набережная, обстроенная красивыми зданиями. Словоохотливые соседи указывают городской театр, старую биржу, городскую ратушу, православную церковь св. Николая, памятники Леопольду I и императору Карлу VI, карантин, наконец — дом Австрийского Ллойда. Андрей Иванович рассеянно смотрит на эти здания и думает по русской привычке как бы не опоздать на пароход.