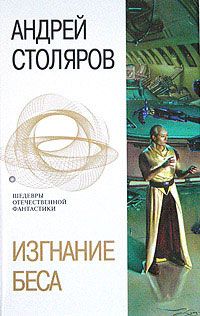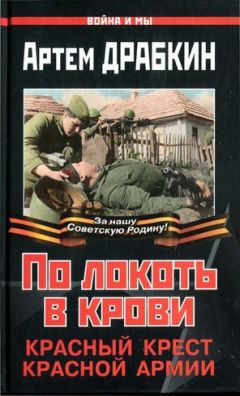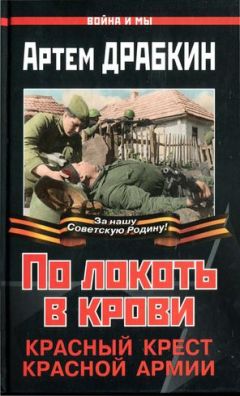Не будем наворачивать дальнейших подробностей. Они хорошо известны и, главное, зафиксированы на множестве электронных носителей. Напомним только, что, к счастью, ничего из этих планов не было осуществлено: уже через сутки поплыл колокольный звон с вершины Ивана Великого, ситуация в стране резко переменилась, правительство и парламент были вынуждены бежать из Москвы, Гражданский комитет, формировавшийся, вероятно, всю ночь, объявил, что с радостью встретит в столице «посланников народной России».
Лучше все-таки обратимся к легендам.
Так вот, представим себе стихийное ликование, охватившее лагерь. Первые будоражащие известия начинают туда поступать еще вечером предыдущего дня. Напряжение возрастает. Ночью, под звездным пологом сентября, кипит шквал страстей. Люди приникают к приемникам, к сотовым телефонам: новости, как электрические разряды, мгновенно проскакивают по лагерю из конца в конец. Около четырех утра становится ясно, что Кремль покинут, а где-то без четверти семь звучит в эфире обращение Гражданского комитета.
Это победа!
Эпоха бюрократического гниения в России отринута навсегда.
Идет новый день.
Новый удивительный мир приходит вместе с пением птиц.
И пусть он принесет новые тревоги и потрясения, пусть лик его будет не мягок и благостен, а требователен и суров, но это будет именно новый мир, и потому в первых своих зарницах он исполнен надежд.
Ликование в лагере достигает предела. Грохочут петарды, распускаются в небе тысячи разноцветных огней, гремит музыка из приемников, плывет, смешиваясь, дым торжества от факелов и костров. Воздух как будто полон призраками судьбы, и в первый момент, по-видимому, никто не обращает внимания, что Дева, проскользнув, точно тень, сквозь праздничную круговерть, неслышно, стараясь нигде не задерживаться, уходит по направлению к озеру.
Картина, как ее потом удастся восстановить, выглядит приблизительно так. Озеро длиной около километра, а шириной метров пятьсот. Вода в нем светлая, просматривается песчаное дно. На другой стороне – заросли ивы примерно в человеческий рост. Царит безветрие, какое бывает только перед восходом солнца. Водная гладь похожа на расплавленное стекло. Уже практически рассвело, заметен слоистый туман, затягивающий противоположную береговую кромку – он немного колеблется, переливается, и в молочно-призрачной, рыхлой толще его проступают, как в один голос утверждают свидетели, очертания некоего смутного града: как бы луковицы теремов, как бы бревенчатые затейливые переходы строений. Многие даже слышат серебряный колокольный звон, который рождается как будто на небесах. Конечно, это ничего не доказывает. В очертаниях облаков, например, тоже можно увидеть все что угодно. Тем не менее поражает детальное единство свидетельств: Дева ступает на поверхность воды и идет по ней в самом деле как по стеклу. Светлая пленочка лишь чуть-чуть прогибается. Песни, крики стихают, вдруг наступает необыкновенная тишина. Золотятся под утренним солнцем верхушки дерев. И еще один человек вслед за Девой ступает на поверхность воды. Это тот мистический муж, который сопровождает Деву, где бы она ни была. Ничего, кроме имени, о нем неизвестно – только то, что он опять-таки вместе с Девой пришел откуда-то в Уральский Китеж. Кстати, пленка воды прогибается под ним гораздо сильнее. Каждый шаг дается ему, по-видимому, все с бóльшим и бóльшим трудом. Кажется, что он вот-вот провалится в глубину. Однако перед самой кромкой тумана Дева на мгновение останавливается и не оборачиваясь, не глядя протягивает руку назад. Пальцы их крепко смыкаются. Они вместе вступают в расплывчатую белесую муть. Фигуры их тоже белеют, заволакиваются медленными вихревыми разводами. Через секунду-другую их уже толком не различить. А потом начинает по-настоящему печь солнце, туман редеет, развеивается, впитывается в водный простор. И вот – уже ничего, ничего, кроме лиственных зарослей ив.
И это, надо заметить, вполне естественно.
Время чудес закончилось. Провиденциальная миссия завершена.
Герой, исполнив предназначение, должен уйти.
Легенда, конечно, но именно такие легенды творят историю.
6. Сегодня. Санкт-Петербург
В октябре Анастасия начинает хандрить. Это выражается у нее в нескольких вполне конкретных вещах. Во-первых, она требует, чтобы отныне я называл ее не Настя, а Стана.
– Что такое Настя, Настенька? – говорит она, морща нос и презрительно передергивая плечами. – Так и видишь некое домашнее существо, милое такое, в оборочках, незатейливое, совсем без мозгов, которое сидит на тахте и гладит котенка: у-у… пупсик мой!.. Нет, Стана – звучит как струна. Звенит, понимаешь? Это имя обязывает…
Я пытаюсь ей говорить, что вовсе не номинация определяет экзистенциальную суть. Когда бог поставил Адама и повел перед ним рыб, птиц и зверей, чтобы тот дал им имена, то эти рыбы, птицы и звери уже начально существовали. Они уже народились, они уже были такими, как есть. Не символ порождает явление, а наоборот. Я даже припоминаю ей Уильяма нашего, так сказать, Шекспира. «Что значит имя? Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».
Однако Стана эти мои возражения решительно отметает.
– Шекспир давно умер, – говорит она.
И смотрит на меня так, словно я не понимаю элементарных вещей.
Ладно, Стана так Стана.
А во-вторых, она забрасывает все дела, отключает сотовый телефон (точнее, включает его только тогда, когда ей нужно звонить самой), а в богадельне, как она называет свое «Общество исторического наследия», нагло врет, что он сломался и отдан в ремонт. У нее на работе всего два присутственных дня в неделю, и она кое-как их отсиживает, перебирая бумаги и ледяным голосом пресекая звонки, а в остальное время либо скрывается дома, и Василина Игнатьевна, кто бы ни позвонил, отвечает с мучительными запинками, что Настеньки сейчас нет, либо с утра до вечера шатается по Петербургу: бог знает где, по набережным, по галереям, по каким-то шизофреническим презентациям, потом рассказывает со смешком:
– Вот выставили в фойе пластилиновую куклу Гоголя, в натуральный рост, чучело, что они хотели этим сказать?..
Настроение у нее самое отвратительное. Один раз среди бела дня она даже заявляется ко мне в институт. Ну, не в сам институт, конечно, звонит из ближайшего сквера: не мог бы я к ней выйти сейчас?.. Я нахожу ее на скамейке, нахохлившуюся, с поднятым воротником, руки в карманах, растерянную, глухую, озябшую, веду в кафе, пою кофе, куда вливаю чуточку коньяка. Мы долго разговариваем ни о чем: осенние сумерки, смутные прохожие за окном, взвесь невидимого дождя, заметного только по крапчатой поверхности луж. Да еще по тому, что лицо после двух-трех шагов вдруг покрывается мокретью…