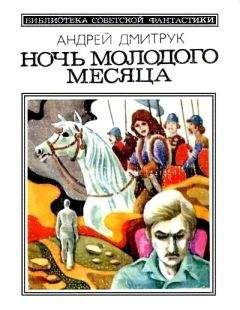И мир супругов был нарушен.
Все реже и отрывистее становились рассказы Региса. Нора буквально выжимала из него слова. Он с трудом собирался, чтобы вспомнить о ней, о Земле, о своем беспомощном теле, прикованном к креслу-сиделке. Возвращения доставляли ему боль. Оцепенелые мышцы рта сложились в постоянную блаженную улыбку. Улыбка относилась к тому, что Регис видел перед собой в космосе.
Последнее, о чем он рассказал жене, было — за Нептуном — видение золотого зверя с длинными лапами, ехидно улыбающейся пастью и целой короной спиральных рогов. Статуя висела в пустоте, ее бока были изъедены метеорной пылью.
Муж был потерян. Мумия в темных очках нехотя жевала свои завтраки и обеды, прихлебывала чай из рук Норы, страдальчески морщилась от любого обращения, даже самого ласкового. Нечеловеческая свобода опьянила Региса, заставила его забыть о самой жизни. Он перестал делать упражнения, призванные вернуть ему подвижность. Он месяцами не менял позы. Он молчал.
Косов мотался по всей планете, налаживал производство своих передатчиков, и пришлось вызвать лечащего врача, молодого энергичного брюнета с ухватками актера эстрады. Он тормошил Региса, пытался отвлечь. Однажды врач потянулся было отключить блоки восприятия, но больной каким-то образом почуял это намерение и разразился таким отчаянным, бессловесным мучительным воем, что сама Нора запретила дальнейшие попытки.
За столом Нора играла роль радушной хозяйки, даже испекла для врача пирог. Рассказывала своему вынужденному гостю про прежнюю жизнь с мужем. Вспомнила, какой это был гибкий, веселый, легкий на подъем, остроумный человек; сколько сил он отдавал своему Двигателю Времени — вплоть до страшного дня катастрофы…
Однажды Норе удалось отвлечься и даже посмеяться. Она вспомнила одну ночевку на реке, дымный костер из веток, намокших под дождем, и тщетные усилия установить палатку. Тогда они ели говяжью тушенку. Нора уронила хлеб на землю, и Регис рассердился. Сказал, что есть такого хлеба не будет, потому что песчинки противно скрипят на зубах. «Не будешь есть?» — лукаво спросила она тогда, взяла в зубы кусок хлеба и протянула ему. Конечно, он откусил половину — чтобы добраться до губ Норы…
Да, она смеялась, вспоминая, но в этот момент в комнату ворвался обиженный скрежет, вой, сильный, как сирена. Только выучка спасла врача от замешательства. Заставила вскочить и броситься к балкону.
Он не успел.
Нора закричала: «Регис!» — и заткнула себе рот кулаком. Послышался слабый скрип, шорох, позвякивание. С забинтованной головой и плечами, сбросив плед, на исхудавших ногах стоял покрытый шрамами Регис. Он мотал головой и выл. Вокруг него шевелились еще укрепленные одним концом на теле шнуры датчиков, змеи соединительных трубок. В углу беспомощно мигало огоньками искалеченное кресло-сиделка.
— Я разбил «Флаинг», — с неожиданным спокойствием доложил Регис, поворачиваясь к вошедшим. — Он ударился о самую высокую из Рубиновых Пирамид.
Нора невольно подхватила его. Врач помог ей, бормоча что-то о нарушении режима и необходимости нового обследования. Неожиданно Регис оттолкнул обоих.
— Да ну вас всех с вашими обследованиями, — сказал он, снимая свои громадные очки. У Региса оказались серьезные, круглые серые глаза. — Я разбил «Флаинг». Я уже месяц как здоров. Наверное, клетки сами восстановились. Где Косов?
— Кажется, в Буэнос-Айреее, я не знаю точно, он почти не звонит. Милый, это неважно, мы найдем его, я так счастлива, что ты…
— Хватит. — Он оттолкнул ее руки и снова встал. — Я несчастен… Я мог за три секунды попасть в Буэнос-Айрес…
Норе стало по-настоящему страшно. Муж, не обращая больше внимания ни на нее, ни на врача, захромал по комнатам. Заперся в ванной. Слышно было, как он сдирает с себя бинты, только сегодня заботливо смененные роботом-сиделкой, как болезненно вскрикивает, выдергивая из кожи шприцы, щупы и электроды. Врач попробовал было штурмом взять дверь ванной, но Регис жутко захрипел изнутри: «Вон из моего дома!» Нора словно ничего не замечала. Врач пожал плечами и вышел.
— Где, черт побери, мой синий галстук? Ну, тот, в полоску?
Ему все еще было больно: он морщился, повязывая галстук. Нора жадно рассматривала совсем новое, изборожденное следами катастрофы, впалое лицо мужа.
— Господи, куда же ты?
— В аэропорт. В Аргентину. Не знаю. Провалиться бы мне.
Он шагает к лестнице в холл. Боком, неуверенно, неуклюже спускается, поминутно спотыкаясь и язвительно хохоча:
— Ура, я прозрел! Какое счастье! Какая свобода! Какое богатство впечатлений! Обратите внимание, насколько лучше и быстрее я теперь передвигаюсь! Пожалуй, если плотно поесть, можно даже обогнать дождевого червя…
Она выскочила из ворот на несколько секунд позже, чем Регис.
К мосту через реку бежало светящееся шоссе, по нему время от времени бесшумно лилась размазанная скоростью хрустальная, туманная машина. Он шел наперерез движению, шел странным, путаным путем, словно еще не научился соразмерять свои усилия с преодолеваемым пространством. И вот упал. Пытается встать на колени, как человек на льду…
Сияющий прозрачный автобус — скелет кита, наполненный огнями, — мелькнул мимо Норы. Закричав, она бросилась вслед. Но автобус вдруг свернул со светящейся полосы, сделал низкую воздушную пробежку над кюветом и клумбой и опять вернулся на дорогу. Автоматика сработала безукоризненно.
…Регис глухо всхрапывал, уткнувшись в плечо Норы. Так он плакал со времен замены погибших голосовых связок искусственными. Стоя на обочине шоссе, Нора все крепче гладила волосы мужа, а он бесконечно повторял одно слово, вобравшее боль, и страх перед возвращением к жизни, и счастье жить, и жгучий стыд:
— Прости, прости, прости, прости…
Нежным июньским утром по колено в ромашках, клевере, мяте и ржавом конском щавеле стоял Координатор Святополк Лосев, подняв глаза к ясному небу. Руки Координатор глубоко всунул в карманы кожаных брюк, ноги твердо расставил, словно готовился простоять так сутки. За спиной Лосева пилот Мухаммед аль-Фаттах делился воспоминаниями со старейшиной Центра Прямых Контактов Марчеллой Штефанеску.
— …Когда переходишь границу контроля — это почти световой год от оболочки, — двигатель сразу выключается, а тебя охватывает жуткая слабость. Просто падаешь навзничь и лежишь, пока корабль буксируют в порт… Можно умереть со страху.
Марчелла терпеливо кивала, не отрывая глаз от неба. Только оператор телевидения показывал профессиональное безразличие, сидя с камерой на груди и выстругивая ножом свисток из ольховой ветки. Святополк попробовал долго не мигать, почувствовал резь и зажмурился. Наперебой верещали кузнечики, дивная акустика безветренного утра приблизила к самому уху фырканье коней за рекой, и посвистывание прибывающих гравиходов, и шорох луга под ногами любопытных.