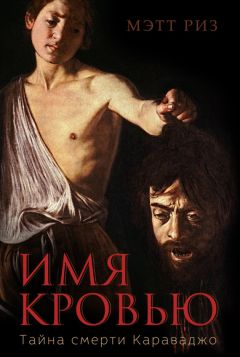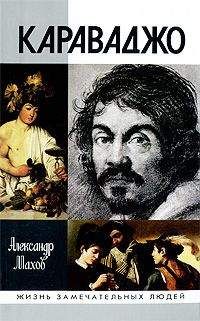Сильная рука Фабрицио сжала его плечо почти с нежностью.
– Когда спустишься, иди за рабами к мысу. Там вас будет ждать лодка. Я послал своего моряка проводить вас до Сицилии.
– Никогда этого не забуду, Фабрицио.
– Роэро тоже. Помни об этом и впредь будь осмотрительнее. Теперь твоей крови жаждут не только Томассони, – Фабрицио огляделся по сторонам: не видно ли стражей. – Когда я сидел в тюрьме, то мечтал о побеге. Хотел убежать от смерти. Теперь ты, Микеле, осуществишь этот план.
Караваджо стер с ладоней всю кожу, цепляясь за канат, чтобы не соскользнуть слишком быстро. Волны в бухте внизу бились о берег так, будто им не терпелось его поглотить. Наконец Микеле добрался до берега и пошел за молчаливыми африканцами по тропе над морем. За спиной послышался плеск якоря, который Фабрицио бросил в волны.
У трапа подпрыгивала на волнах гребная лодка с высокими бортами. Рабы взглянули на крепость, в подземельях которой сидели прежде в заточении.
Матрос Фабрицио был готов к отплытию.
– Ради бога, скорее, – прошипел он.
Рабы сели на весла. Моряк оттолкнулся от берега и взялся за руль. Караваджо оглянулся на крепостную стену, ища взглядом сына Костанцы.
Через час огни мальтийских фонарей скрылись за горизонтом, а вместе с ними – рыцари и написанные здесь картины.
Часть III
Голова Голиафа
Сицилия и Неаполь
1608
Зарю в Палермо он встречал в одиночестве. Первые лучи солнца отражались в широких шляпках гвоздей, которыми холст был прибит к раме. Но некому было смотреть, как скользит по ним этот утренний свет.
Караваджо лежал вниз лицом, раскинув руки в стороны. Он завалился спать не раздеваясь, словно сраженный предательским ударом. Невзирая на летнюю жару, он, насквозь мокрый от пота, держал под рукой оружие и не снимал одежды, чтобы бежать, если вдруг нагрянет наемный убийца. В полутьме ему мерещились призрачные фигуры, и он следил за ними, затаив дыхание. В такую погоду древесина ставен постепенно рассыхалась, и когда ее касались лучи восходящего солнца, она начинала жалобно постанывать. И каждый скрип, каждый треск заставлял его сердце трепетать.
Возможно, убийцы придут сегодня. «Еще немного, и я сам буду рад этой встрече», – думал он.
Караваджо пытался представить себе, что чувствует святой перед казнью. В отличие от него святые точно знали, чем утешиться, какая судьба ожидает их души. Но когда он думал об их смерти, то воображение рисовало лишь обездвиженные тела. Мясо после бойни.
Художник склонился над доской с красками.
– Доброе утро, мои верные друзья, – прошептал он. Столь любимая им железистая глина из-под Сиены, желтовато-коричневая или красноватая после отжига; красная охра, также с тосканских холмов; белила, что делают из негашеной извести флорентийские монахи; зеленая земля из окрестностей Вероны; бесценный ультрамарин, полученный из лазурита, добытого из недр ханских земель – там, за далекой Персией… Всех их коснулся пальцами художник – краски действовали на него, как бальзам на раны.
Он спустился в кухню. Старый францисканский монах поставил перед ним миску жидкого капустного супа.
– Как продвигается наше «Рождество», маэстро Микеле?
– Почти готово, – Караваджо уже два дня как дописал картину, но не спешил с ней расставаться, остерегаясь опасностей, поджидающих его у ворот мастерской.
– Да благословит вас Бог, маэстро. А куда вы пойдете, когда закончите картину?
В супе плавали редкие полоски нарезанной капусты да бобовый стручок. Художник помешал в миске ложкой, но бобов не обнаружил.
– Я об этом еще не думал, брат Бенедетто.
Только поглощенный работой, он забывал о том, что жизнь его катится под откос. Караваджо старался не думать о будущем, уже наверняка зная, что ждет его впереди. Но монаху это бесполезно объяснять: францисканцы были приверженцами аскетизма и умерщвления плоти. Кто знает, может, брат Бенедетто не положил бобы в суп по соображениям веры.
– Но куда бы я ни отправился, брат, я буду вспоминать вашу кухню. Где еще мне найти подобные деликатесы?
Бенедетто рассмеялся.
– Странный вы, маэстро Микеле, – он с усилием разрезал черствый хлебец из непросеянной муки. Пекарни жертвовали францисканцам хлеб, залежавшийся настолько, что на него не позарился бы даже последний нищий. – Брат Камилло говорил, вы на днях накричали на него, за то что он предложил вам постирать одежду.
Караваджо продолжал хлебать суп.
– Вы сказали: «Они могут прийти – не хочу, чтобы меня застали голым». Кто эти «они», маэстро?
– Трактирщики, которые охотятся за вашими изысканными рецептами.
И художник побрел наверх, в свою мастерскую. Начиная писать это «Рождество» для молельни Святого Лоренцо, он намеревался придать Пресвятой Деве облик Лены. Но вновь пытаясь изобразить ее в образе Богоматери – на этот раз склонившейся к лежащему на соломе младенцу, не мог отрешиться от воспоминания о бледном и покрытом испариной страдальческом лице Лены, только что потерявшей их ребенка. В конце концов он придал Мадонне черты мальтийки с «Усекновения главы Иоанна Предтечи».
Постоянная подозрительность и осторожность, сопровождавшие его во время редких вылазок на улицы Палермо, доводили до крайнего изнеможения. В каждом стуке двери и услышанной фразе чудилась ловушка – в любую минуту он мог выдать себя и угодить в руки преследующих его убийц. Как-то ему показалось, что он встретил на улице одного из братьев Томассони – художник даже бросился за незнакомцем, но, к счастью, не догнал. А после и сам пустился в бегство, когда у дворца испанского наместника ему привиделся Роэро. «Не сошел ли я с ума? – думал он на бегу. – Впрочем, какая разница? Они придут за мной, даже если я безумен».
К полудню ему вдруг вспомнился стручок, что плавал в утреннем супе. А что, если этот стручок лишь игра его собственного воображения, да и суп вовсе не суп, а какая-то бесцветная жижа? Он провел руками по лицу и ощутил, как под бородой отчетливо выступают скулы. Заглядывая под рубашку, он знал, что там увидит, – кожу да кости. На этот раз голод поборол страх.
Караваджо вышел на улицу и зашагал по направлению к Норманнскому дворцу, рассчитывая по дороге заглянуть в таверну. После стольких дней, проведенных во тьме монастыря, солнце мучительно пекло голову. В изнеможении он прислонился к стене у лавки булочника. В глазах потемнело, а запах свежего хлеба вызывал только слабость и отчаяние. Когда зрение восстановилось, цвета окружающих вещей показались какими-то прозрачными и плоскими – как на первом слое масляной краски картины, где нет еще полутонов и контрастов.