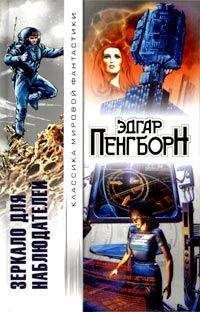Я пробормотал нечто приемлемое о том, что это, мол, конкретная проблема каждого конкретного артиста, одна из тех, решить которые может только лично сам артист. Мой ответ был столь же правдив, сколь и приемлем, но ведь София прекрасно знала все это и без меня.
Мы с сестрой никогда не заставляли ее. Был год, мистер Майсел... Ей исполнилось пятнадцать, уже после того, как она стала жить с нами... Она вставала из-за рояля, не зная, где находится. Однажды моя сестра увидела, как по дороге в спальню Шэрон ошиблась дверями, потому что она вообще не была в комнате, вы понимаете?.. Она была в каком-то другом месте, думаю, вы понимаете... в каком-то месте, где, кроме нее, не было никого. Мы с сестрой были напуганы в тот год. Это уже слишком, подумали мы... Мы никогда не подгоняли ее, а иногда и пытались сдерживать, но сдержать ее было невозможно. Страхи оказались глупыми, понимаете? Такое пламя никогда не может умереть. Только маленькие огоньки, которые... Ой!
В кабинете заговорил рояль.
— Нет,— сказала София.— Нет, это не Шэрон. Зачем он?..
Я поспешил объяснить:
— Он учится. Что-то толкнуло его к музыке. Возможно, он реализует себя и еще в чем-нибудь, очень скоро.
— Я понимаю.
Не уверен, что она и в самом деле поняла, но радости у нее доносящиеся из кабинета звуки не вызывали. Абрахам играл мрачную Четвертую прелюдию Щопена, играл почти точно, достаточно музыкально и с некоторым пониманием. Я пробормотал, что сейчас вернусь, и вошел в кабинет как раз в тот момент, когда Абрахам закончил. Я увидел его вопрошающий взгляд. Во взгляде этом была усмешка, насколько искренняя, не знаю, но думаю, что скорее всего за усмешкой он прятался от истины. Я заметил также, что Шэрон чуть-чуть качнула головой — думаю, непроизвольно. Впрочем, она тут же постаралась смягчить свою реакцию, сказав:
— Ничего.— Потом она шагнула к нему за спину, обвила руками шею Абрахама, почти коснувшись губами его уха.— Ты действительно хочешь этого, Эйб?
— Не знаю.
— Это чертовски неровно... Ну, ты и сам знаешь. И я не думаю, что тебе хотелось бы заниматься этим для собственного удовольствия... Если бы так, это было бы хорошо, но, насколько я тебя знаю, Эйб, с помощью музыки ты хотел бы отдавать.— Она помолчала.— Музыка отнимает по восемь часов в день в течение нескольких лет, и все равно может ничего не получиться.— Она взглянула на меня поверх его головы, и во взгляде ее был испуг.— Это может лишить тебя возможности заниматься... ну, вещами более стоящими, вещами, которые ты можешь делать гораздо лучше.
Да, она была ужасно испугана, и я бессилен был ей помочь.
Но Абрахам сказал:
— Думаю, это было нервное возбуждение, Шэрон. Думаю, я ощущаю некую приятную холодную испарину на своем челе.— Его губы кривились, но он пытался улыбаться.— Сделаешь для меня кое-что?
— Все что угодно,— сказала она, почти плача.— Все что угодно, сейчас и всегда.
— Просто сыграй ее так, как должно быть.
— Ну, нельзя сказать, что должно быть именно так. Но я сыграю, как могу.
И она, разумеется сыграла. Было бы просто безжалостно — сыграть что-нибудь хуже, чем она могла, потому что он сразу бы понял это. Однако не знаю, много ли других людей сумели бы почувствовать это в подобный момент. Я знавал немало пианистов — и людей, и марсиан. Всех их без труда можно разделить на две группы: Шэрон и все остальные. В любом случае я всегда эту прелюдию терпеть не мог. Шэрон с довольно безнадежным видом подмигнула мне и немедленно исполнила следующую прелюдию, ля мажор, окрашенную в юмористические тона. Это была Седьмая, но безо всякого намека, а просто потому, что за предыдущей обязательно должно было последовать еще что-то. Четвертая просто не могла повиснуть в воздухе.
— У меня в этом храме особый уголок,— сказал Абрахам, поцеловав Шэрон в лоб, и вложил ей в губы зажженную сигарету.— Уголок, в котором наилучшая слышимость... Напоминай мне время от времени, чтобы я тебе говорил, что у тебя курносый нос.
— Ты н-неравнодушен к вздернутым носам?
Я вернулся к Софии Уилкс...
Едва мы отправились домой, у Абрахама появилась необходимость поговорить со мной. К счастью, автомобиль — один из тех хитроумных человеческих механизмов, которые не вызывают у меня благоговейного страха. Пока он находится на земле, я чувствую себя в нем, как дома. Не думаю, что когда-нибудь сяду в плэйн-кар, который они сейчас испытывают. У этой чертовой штуки есть складывающиеся, словно у жука крылья. Предполагается, что они должны раскрываться при семидесяти милях в час. А в придачу — убирающийся пропеллер. Этакая неторопливая штучка!.. Находясь в воздухе, она будет давать свыше трех сотен миль, но они, думаю, сумеют управляться с ней. Приятно, конечно, в особенности, для детишек, озабоченных поисками нового способа сломать свои шеи... Пробираясь по тихим мрачным улочкам, которые к полуночи становятся совершенно пустыми, я был способен слушать Абрахама, не особенно заботясь о выполнении функции водителя. Абрахам хотел поговорить об исправительной школе, даже не столько хотел, сколько стремился удовлетворить возможные, еще не заданные мною вопросы.
Попав туда, он ушел в себя, замкнулся. Было несколько ребят, с кем он "дружился", но "дружение", сказал он, всегда было омрачено чувством, что ничто не может продолжаться слишком долго. Я ляпнул какую-то банальность, намекая на то, что человеческое развитие имеет много общего с развитием насекомых: старые куколки выбрасываются в груду хлама и выращиваются новые.
— До сих пор,— сказал он,— как большой клоп, я помню о более ранних формах своего клоповника лучше, чем скажем, долгоносик.
И он принялся сочинять достаточно ужасные и замысловатые каламбуры, по ходу дела выведя слово "воспитанник" из слова "куколка"[56]. Из уважения к нашей марсианской общине я не стану воспроизводить прочие его лингвистические изыскания. Потом он рассказал мне о том, как приходят и уходят "заблудшие" мальчики. Это была большая школа, Ставившая во главу угла, я думаю, чуткость и совесть. Мальчики были всех сортов: болезненные, слабоумные, большинство — так называемые нормальные и даже несколько весьма смышленых. Они создали отгородившееся от внешнего мира сообщество, но Абрахаму казалось, что между собой у них было очень мало общего, кроме разве что смущения. Даже ожесточение было в некоторых из них на удивление слабо выраженным. Воевали они чаще друг с другом, чем с начальством. Насилие при этом, как он заметил, применялось, в основном тайно. Дисциплина была достаточно жесткой, и школа предпринимала серьезные усилия, чтобы избавиться от хулиганов или обломать им зубы.
— Я носил нож,— рассказывал Абрахам.— Никогда не мог им воспользоваться, а это надо было делать. Знаете, словно знак принадлежности к сообществу. Новичка несколько раз подвергали избиению, затем кто-нибудь, обнаружив, что он научился носить нож и говорить на принятом в обществе языке, заступался за него, и новичка оставляли в покое. Мне удавалось доставать кое-какие книги. А в последние два года даже удалось устроиться на работу в так называемой библиотеке. Избиение новичков, помимо физического воздействия, было еще и чем-то вроде... ну, обязательного ритуала... Кстати, у всех было одно общее и кроме смущения. Я бы назвал это комплексом " никто-меня-не-любит". Те, кого навещали родители чувствовали себя хуже всех. Но и остальные воображали или старались вообразить, что о них никто никогда не заботился. Меня не проведешь, Уилл, так поступало большинство, но об этом не говорили. Сказать — значило бы признать, что считаешь виноватым и себя самого, а это было уже слишком. Ты должен был верить, что никому не нужен, что ты изгнал из обычного мира. Школа парадоксов. И возможно, это была не такая уж плохая подготовка к тому, что ждало нас за ее пределами. Знаете, Уилл, эти старые школьные связи...— Он усмехнулся.— Бывший питомец Браун вспоминает золотые деньки.— В последней его фразе не было и намека на горечь.— Уилл, хотел бы я знать, есть ли что-либо, способное вывернуться на изнанку и вмазать себе по зубам так, как это умеет человеческая душа...