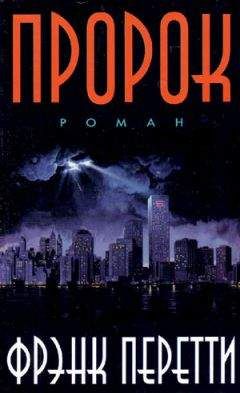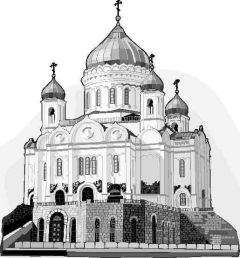Хорошо. Во-первых, уверен ли он, что Энни Брювер умерла от руки акушера-халтурщика? Да, уверен. Но его уверенность ничего не значит, покуда он не сможет представить доказательства, а поиск доказательств будет делом хлопотным и, если не соблюдать осторожность, рискованным. Вот он – предположительно беспристрастный, заслуживающий доверия репортер – окажется вдруг замешанным в деле, которое заклеймит его как противника абортов или, хуже того, противника свободы выбора. Это плохо скажется на его рейтинге, и Бену Оливеру это не понравится.
«А если взять вопрос несправедливости?» – подумал Джон. Было ли то, что случилось с Энни Брювер, несправедливым? Да, он так считал. Ладно, насколько несправедливым? Безусловно, опытный адвокат сможет доказать, что врач – и, в сущности, вся клиника – действовал в пределах закона, по чистой совести и в согласии со своими убеждениями; и в этом случае Брюверы, а вместе с ними общество «Джон Баррет и Ко» останутся в дураках, не имея никаких оснований возбуждать дело в суде.
Ладно, положим, все делалось легально, – но разве от этого случившееся с Энни стало справедливым? «О, пожалуйста, только не надо пускаться в эти рассуждения», – подумал Джон. В последние дни он получил слишком много доказательств того, что закон не в состоянии уладить это противоречие.
Тогда зачем ему вообще волноваться? Ответ пришел Джону на ум сразу: потому что случившееся с Энни было злом, а зло торжествует, когда хорошие люди сидят сложа руки.
Ладно, что же такое зло? Он мог бы поступить по примеру Папы: хлопнуть ладонью по Библии и объяснить, что такое добро и что такое зло; но насколько это уместно в обществе, которое вырабатывает нормы морали – нормы, постоянно меняющиеся, – с оглядкой на мнение большинства, на законодательство, на судебные прецеденты? За кем останется последнее слово? Возможно, концепция зла является лишь своего рода чуланом, куда сваливают все неугодное большинству?
Ладно, если он не может четко сформулировать, что такое зло, зачем бороться с ним? Все, что считается злом сегодня, завтра может быть принято большинством голосов, утверждено законом и провозглашено добром. «Может, если мы просто выждем какое-то время, – думал Джон, – мы смиримся с существующим положением вещей. Может, через год случай с Энни уже не будет представляться нам столь ужасным, и, оглядываясь в прошлое, мы будем радоваться, что не стали напрасно лезть из кожи вон. И ломать карьеру».
Но если они не оставят это дело? Джон попытался представить наилучший возможный исход.
Вероятно, Брюверы получат какую-то денежную компенсацию. Суду присяжных придется принять постановление о компенсации, но разве при существующих законах можно будет доказать в суде факт какого-либо правонарушения?
Ладно, а может ли этот случай вызвать волну негодования, побудить общество потребовать ужесточения законов, регулирующих индустрию производства абортов? Да, конечно, он подольет масла в огонь полемики, но разве это нужно? Она и без того разгорается вовсю.
А Папа? Джон совсем сник, надежда оставила его. Насколько они знали дело Энни, ни одна тончайшая ниточка не связывала его с Папиной смертью.
Какая неопределенность! Если бы он мог найти хоть какую-нибудь гарантию!
Теперь Джон попытался представить наихудший возможный исход дела. Они не выяснят ничего, никто не будет уличен или призван к ответственности, а он прослывет участником движения против абортов, вершащим несправедливую месть, что разрушит образ – как там выразился Бен Оливер? – «умного, хладнокровного парня... человека, от которого общественность может ожидать освещения событий в спокойной, объективной и выдержанной манере...»
Что ж, один ответ, одна линия поведения стали очевидными. «Джон, размышлял он, – тебе надо держаться подальше от этого дела. Независимо от того, как оно обернется, ты не можешь ввязываться в него. Репортаж для программы – это одно, а политическая возня – совершенно другое; и в любом случае без достоверной информации это еще не материал для репортажа».
Итак, он все решил. Он принял решение. Впрочем, нет. Джон почти физически ощущал, как в уме его бьется мысль:
То, что случилось с Энни Брювер, несправедливо.
Да, несправедливо. Но как насчет?.. Это несправедливо. Джон знал, что это несправедливо; чувствовал, что это несправедливо; и он сойдет в могилу, твердо убежденный в том, что это несправедливо.
Но другие соображения продолжали мучить Джона: его карьера, его имидж, неопределенность закона, неопределенность существующей общественной морали, расплывчатость самой концепции зла.
Это несправедливо, говорило сердце, безусловно, возмутительно, безоговорочно, абсолютно несправедливо.
Но что можно поделать с этим? Зачем даже пытаться? Джон вскочил с кушетки, готовый бороться с сомнениями, раздраженный ситуацией в целом, злой на себя, на эту проклятую клинику, на весь мир, обагренный кровью. Послушай, ведь громко протестовать может лишь человек, сохранивший какие-то остатки совести!
– Это несправедливо! – сказал Джон себе, а потом продолжил, обращаясь к миру: – Нет, извините, все ваши доводы неубедительны! Видя несправедливость, я сознаю ее; я прекрасно вижу, когда кто-то преследует корыстные интересы, и прекрасно вижу, когда кто-то совершает трагическую ошибку и пытается уйти от ответственности – и это несправедливо, и вы никогда не заглушите во мне голос совести!
Он посмотрел через стеклянную дверь балкона на город, сейчас горящий мириадами огней, сверкающий, грохочущий, спешащий по своим делам, озабоченный необходимостью заключить какие-то сделки, успеть в какие-то места, назначить какие-то встречи. На мгновение Джона охватило странное чувство – чувства родства во грехе со всеми людьми.
– Как это мы вообще умудрились заварить такую кашу? – спросил он.
А потом до Джона, тихо стоящего над городом, снова донеслись голоса. Он слышал их ясно, но не «явственно», не физическим слухом, как раньше. Он слышал их сердцем. Он слышал их душой. Он слышал их каждой частицей своего существа, которая могла скорбеть – и надеяться. Он не удивился и не расстроился. Он с готовностью признал, осознал реальность этих голосов.
Вероятно, так было потому, что в какой-то мере он понял чувства этих душ. Они страдали, да, и умирали, неуклонно увлекаемые вниз отчаянием, но они кричали, поскольку знали, что их услышат; они отчаянно искали света надежды, поскольку знали, что она есть. Они знали. И сколько бы они ни отвергали, ни отрицали ее при свете дня, в шуме и суете повседневной жизни, в сокровенной глубине своей они знали.
И Джон знал. Знал всегда. Многие годы он не обращал на это особого внимания, едва ли сознательно размышлял об этом, но он всегда знал, что надежда есть – подобная спасательному кругу на корабле, мимо которого проходишь каждый день, но не используешь.