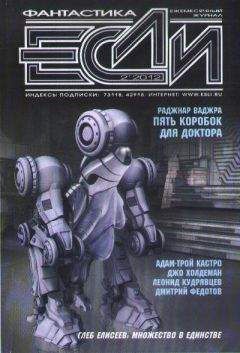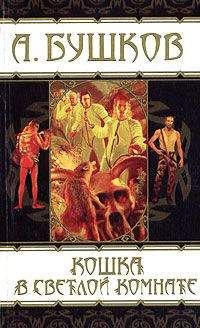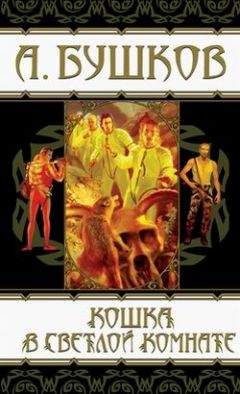— И, конечно же, понимаете, что у властей возникли некоторые проблемы с определением подходящего наказания.
— Конечно. И даже, признаюсь, предполагал подобное. В конце концов, ведь это Гарриман размахивал тем гаечным ключом, это руки Гарримана обагрены кровью. Но я соглашусь с любым обвинением, каким бы оно ни было.
Не мелькнул ли в его ответе намек на саркастическое высокомерие?
— Надеюсь, вы понимаете, что ваше будущее — не вопрос о том, с чем вы желаете согласиться. Важно лишь, какое решение по вашему делу будет принято.
— Тем не менее признание вины облегчит ситуацию для всех, верно?
Теперь я была уверена: он не испытывает ни раскаяния, ни сожаления. Передо мной отъявленный мерзавец. Диямены по какой-то причине настолько отстранились, что я уже забыла о тройственности подсудимого.
Эти мерзавцы затеяли с нами игру. Но чего они хотят добиться?
— В таком случае, расскажите обо всем.
Он вздохнул, взглянул на стену позади меня, прозрачность которой отключили, потом снова на меня. За все это время застывшие лица женщин даже не дрогнули.
— Что вы желаете узнать, советник? Почему я возненавидел этого ядовитого сукиного сына всеми фибрами своей души?
— Как вам будет угодно…
— Аман аль-Афиг был ярким человеком. Но еще он был ужасно больным человеком, не способным устанавливать контакт с другими людьми иными, путями, кроме как гадить им. Если отбросить сухую профессиональную терминологию, то его единственный интерес при социальном взаимодействии сводился к психологическому анатомированию посредством словесной жестокости. Он обожал находить самые чувствительные обнаженные нервы и втыкать в них иглы, доводя до предела любую эмоциональную боль, какую был в состоянии причинить. Через неделю после прибытия на станцию Гарриман жестоко с ним разругался, через две они уже подрались, а через три Гарриман молча страдал, с трудом выдерживая долгие часы оскорблений, лишь бы не поддаться порыву задушить эту мерзкую тварь.
Меня неоднократно обвиняли в том, что я вела себя как аль-Афиг.
— Продолжайте.
— Когда Диямены пригрозили сообщить о его поведении или даже выйти из проекта в знак протеста, аль-Афиг в ответ пообещал уничтожить их репутацию ложными обвинениями. Он похвалялся, что проделывал такое неоднократно, когда участвовал в предыдущих проектах, и зашел настолько далеко, что даже назвал имена тех, чью карьеру погубил гнусной ложью.
— И вы знали о том, каков аль-Афиг, прежде чем согласились участвовать в проекте?
Гарриман покачал головой:
— До этого Гарриман никогда о нем не слышал. И Диямены тоже.
— Но ведь они были коллегами?
— Этот проект замыслили не они. Он включал определенное перекрытие взглядов аль-Афига на одну фундаментальную проблему, и взглядов Гарримана — на другую. Вся команда проекта состояла из наемных работников, прежде не знавших друг друга, а задачи им поставил некий гений, слишком занятый, чтобы участвовать в проекте лично.
Было настолько неприятно не знать о цели всего проекта, что мне пришлось почти физически заставить себя не задавать больше вопросы на эту тему.
— А для чего туда послали Дияменов?
— В их задачу входило повседневное обслуживание станции. А также, — он пожал плечами, — поддержание морального климата. принимая во внимание годы ожидаемой изоляции. Ведь всем предстояло долгое время провести взаперти: лет пять, по самым скромным оценкам. Начальство решило так: если послать четырех человек, а не двух — даже учитывая, что двое из них в действительности лишь два сосуда для единой личности, — то у команды будет больше шансов установить дружеские отношения и меньше поводов для стресса.
Я увидела эту уродливую картину. Если согласиться, что версия Гарримана хотя бы отчасти правдива (а все эти подробности не давали повода в них усомниться), то люди, стоявшие за этим проектом, совершили фатальную ошибку, сочтя секретность важнее социальной жизнеспособности. Если бы в проекте участвовали человек пятьдесят, этакое было вполне по карману любой организации, способной купить оборудование от «AIsource Medical», то личность-паразит наподобие аль-Афига осталась бы мелким раздражителем и лишь сплотила бы коллектив на основе всеобщего негодования. Но в команде из четырех человек избегать аль-Афига невозможно, и он превратился в раковую опухоль.
После паузы я взглянула на двух молчаливых женщин, чьи глаза выражали эмоций не больше, чем пришитые к ткани пуговицы.
— А как уживались с этим аль-Афигом Диямены?
— Его оскорбления в их адрес оказались менее эффективны: они были больше эмоционально «заземлены» и не вспыхивали по любому поводу, — снова ответил за женщин Гарриман.
— Они его ненавидели?
— Да, но не показывали этого, чтобы не давать аль-Афигу повода для удовлетворения. Реальной проблемой для них стало нарастание уровня напряженности на станции. Им приходилось работать до изнеможения, лишь бы развести Гарримана и аль-Афига как можно дальше. Но и они сами находились на грани срыва, готовые оборвать свою карьеру, переслав на базу заявления об отказе участвовать в проекте.
Я не сводила взгляда с Дияменов, продолжавших демонстрировать зловещую отрешенность.
— Наверное, эти женщины испытывали к вам симпатию.
— К Гарриману, — поправил меня человек, бывший когда-то Гарриманом, и в его глазах мелькнула смешинка. — А теперь хотите послушать об убийстве?
Я подумала и решила, что не хочу. Само по себе это убийство было, по большому счету, вполне понятно. Мучитель мертв. Гарриман его убил и честно в этом признался. А какие именно мерзкие слова оказались последней соломинкой, сколько ударов было нанесено и насколько быстро аль-Афиг умер — все это вопросы для Бенгид и ее прокуроров.
Моя единственная обязанность заключается в том, чтобы отыскать законный способ разделить неделимое.
Я встала:
— День был долгим. И вообще, я только сегодня прилетела. Пожалуй, я проверю некоторые ваши утверждения, а завтра утром мы продолжим.
— Тогда до завтра, — сказал Гарриман.
Я повернулась и оставила троицу у себя за спиной. Но когда ионное поле двери уже раскрылось передо мной, он решил поведать мне еще кое-что:
— Советник!
Я обернулась.
— Могу лишь надеяться, что вы отобрали наилучшего партнера для объединения, — сказал он.
За свою карьеру я имела дело со многими социопатами. Моя безжалостность в прошлом давала повод меня саму обвинять в социопатии. И я очень давно научилась распознавать ее у других. Но в Гарримане я ее не увидела. Сочувствие, которое он выражал, показалось мне настоящим. Я верила: совершенное убийство не лишило его — точнее, их — способности ощущать беспокойство почти незнакомого человека… даже если, как в данном случае, этот незнакомец ищет повод, чтобы посадить их в тюрьму.