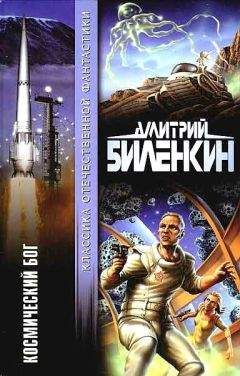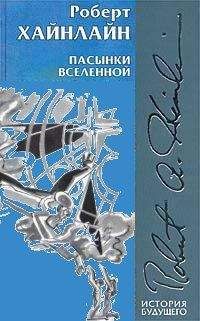Но не тут-то было! Кусты на повороте уже не колыхнулись: они пали, как занавес, поваленные новой лавиной сирилл. Архипов в исступлении полоснул лучом поперек тропинки. Первый ряд повалился, но трепещущий завал почти не задержал животных. Архипов бил лучом налево, направо, наотмашь рубил им, словно огненным мечом. Перед ним громоздились груды, и он все бил и бил, бил по живому и по мертвому; а сириллы, и кажется, уже не только сириллы, все мчались, и это было кошмаром. Словно сама природа вдруг двинулась на пришельца-человека, чтобы смять, уничтожить его.
— И еще несколько минут Архипов палил лучом, хотя бить было уже некого — звериный поток иссяк. Когда человек сообразил это, он вынужден был присесть в изнеможении. Раскаленный пистолет жег ладонь даже сквозь перчатку. Одежда была мокра от пота.
Но треск в кустах опять заставил его вскочить. Да что же это такое… Он озирался, переполненный самыми дикими догадками. Треск шел неизвестно откуда и не походил на прежний.
В нем была угроза и победная сила, как в скрежете челюстей, перемалывающих добычу. Напрасно, однако, Архипов силился разглядеть причину треска. Пыль. Она висела над полем битвы густым дымным пологом.
Сквозь пыль с трудом пробивался рыжий свет дня, огненными бликами падая на тропинку. Их шевеление чем-то остановило внимание Архипова. В них была странная краснота.
И подвижность.
“Что это значит? Все это? Животные, треск, блики… Хоть бы минуту передышки, чтобы сообразить…” Дымный полог колыхнулся перед ним, видимо, от порыва ветра. Полынья света расширилась и тронула дальний куст.
И куст внезапно охватило пламя! Архипов вскрикнул: куст пылал с оглушительным треском.
И тут Архипов понял все… Сразу, окончательно. Понял и замычал, словно от боли. На него, на сирилл, на все живое шли огонь и дым. Шел треск лесного пожара, от которого должны были спасаться все — и люди и звери. Пожар, только пожар гнал сирилл по тропинке на прямую, слепо, безоглядно, по кратчайшей и удобнейшей дороге, на которой вздумалось оказаться человеку, настолько далекому от жизни леса, что он ничего не понял, не посторонился, не побежал бок о бок с животными, а бездумно рубил своим сверкающим мечом, как будто в эту минуту ему могла грозить опасность большая, чем сгореть заживо.
Как ни страшно было это открытие, Архипова прежде всего охватил стыд, горький и едкий стыд. Устроить такую бойню!
Кромсать на куски тех, кто искал спасения и указывал ему путь к спасению!
Архипов последний раз бросил взгляд на печальный памятник своему высокомерию — груду мертвых тел, к которым уже подбирался огонь. И побежал, отшвырнув тяжелый пистолет. Побежал стремглав — по прямой, кратчайшей дороге, не глядя по сторонам, не рассуждая, готовый грудью снести любое препятствие. Побежал так, как перед этим бежали сириллы.
Профессор, отстукивая каблуками, сбежал по трапу на взлетную полосу и шагнул вслед за рулоном. Ковер неслышно бросился прочь. Бросился, но тут же притормозил, приноравливаясь к скорости, наиболее удобной для человека, отвыкшего от собственного веса.
— Направо, налево, вперед, — диктовал кто-то с диспетчерского пункта, и профессор с удовольствием подчинялся, легко скользя в рассекаемой рулоном толпе.
Приятно быть весомым! Приятно подчиняться! Полтора года он командовал всеми сразу, вспоминая о временах, когда можно было командовать только самим собой. Ах, приятно командовать только самим собой! Вот все встречают его здесь, на Земле. Хотят, чтобы он заговорил, взмахнул рукой. А у него комок в горле. Что сказать? Какую речь? Не расскажешь и не напишешь… (Видели бы они его лицо тогда. Когда щит гравитонов вздрогнул и прогнулся. И осколки брызнули. Хорошо, что не видели.) Народ встречал профессора глубочайшим молчанием.
— Никаких эмоций! — приказал медицинский консилиум. — Нервы профессора на пределе!
Никто из них, врачей, не знал наверняка, на пределе или как. Последнее время индикатор присылал совсем непонятные графики его состояния. Кривые выписывали лепестки, бутоны, соцветия, а то выходили на идеальное плато, парили, как птицы, над степью. Врачи путались в графиках. Но каждый ставил себя на его место и говорил:
— На пределе!
Да, за полтора года кабинетной работы он привык к абсолютной, вакуумной тишине. Отзвуки земной суеты не проникали в герметично закрытый кабинет, подвешенный в космосе где-то меж Землей и Луною. Оттуда он и руководил всей этой прекрасной, захватывающей и, что греха таить, настолько интеллигентной операцией, что всего несколько интеллигентов Земли решились поднять руку, отвечая на вопрос: “Кто же?” “Берегут, что ли, мои барабанные перепонки? — размышлял профессор, тревожно вглядываясь в молчащую толпу. — Почему молчат?” Конечно, распоряжение бдительных охранников здоровья было излишним. Никакое тысячеустое, стадионное “ура” не могло сейчас перекрыть радостной бури, валами идущей в груди профессора.
Большой Сводный Цветомузыкальный в десятую часть силы наигрывал попурри из протонных маршей. Профессор махнул рукой.
— Громче!
Дирижеры испуганно оглянулись на музыкантов.
— Еще громче! — профессор решительно рубанул ладонью по воздуху. Какая-то рубиновая труба запела, пуская потоки лазерных разноцветных лучей, самоходные барабаны на воздушных подушках грохнули, и народ пришел в движение. “Уу-рра!” — рвануло кругом. Профессора подняли на руки, а ковер покатился в обратную сторону.
Да, провожали его не так. Затемненный стартодром, десяток испытанных сотрудников, молчаливые президенты академий. Приглушенные звуки команд. “Блок питания…” — “Есть!..” — “Датчик критических масс…” — “Есть!..” Он отклеил карман, сунул туда магнитофон. “У любви, как у пташки, крылья!” — зудело в кармане.
В общем-то тогда, перед стартом, план операции уже прочно сидел в голове профессора. И он был, пожалуй, спокойнее других, не знавших еще этого плана и не имевших своего. Он уже понял кое-что, успел сопоставить, сравнить. Но сказать об этом вслух не решался. Сказать — значило запугать многих, а в те дни нервишки кой у кого действительно стали сдавать.
“Потом, через месяц, оттуда”, — твердо решил он.
Задача сводилась к следующему. Полтора года назад из-за случайных, как казалось поначалу, внешнекосмических причин возросла скорость вращения Земли вокруг Солнца. Да, со дня на день скорость все возрастала. Расчет на уровне домашнего задания школьника показал, в какой день и какой час Земля сорвется с древнего маршрута и помчится, попросту говоря, в тартарары. (Впоследствии он и вошел в стандартные программы заданий на дом, вытеснив из программы более частную и решаемую с меньшим энтузиазмом задачу отрыва Луны.) Расчет посложнее выдал траекторию дальнейшего путешествия. На этом этапе вокруг задачи возникли и закустились докторские диссертации. И уж совсем замысловатый комплекс вычислений раскрыл одну особо неприятную деталь: пройдя по сложной эллипсоспирали, Земля вонзится в центр дальней планеты “Пятак”, прозванной так из-за внешнего сходства с распространенной монетой. Тогда брызнут осколки.