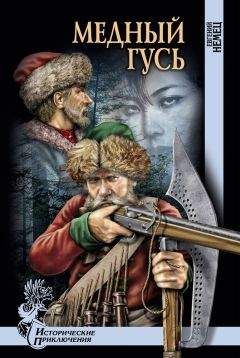— Ты плачешь?
— Тебе показалось.
Она замолчала. Встала. Сбросила с себя плед, мелькнула обнаженным силуэтом, скользнула к нему и прижалась, горячая и своя. До утра. До той записки.
Эх, Наталья. Быть тебе королевой красоты среди тех, кому за тридцать, а может, и за двадцать пять. Морщинки только у глаз. Институт, аспирантура, кандидатская, второе образование, банки, юридическая консультация, турагентство. Сколько же человек может успеть к тридцати, если не дает себе расслабиться? А сколько может не успеть, если не дает себе… Какая уж там личная жизнь, особенно, если бродят вокруг такие, как он.
— Привет.
— Привет.
— Здесь будем говорить?
— Заходи.
— Сережка дома?
— У бабушки.
— Хорошо. Ничего не купил ему сегодня.
— Ему ничего не надо.
— Это не ему. Это мне надо.
— Ты так считаешь?
— Ты думаешь, что я ошибаюсь?
Стоит, повернувшись к нему спиной. Чертова наука любви. Не поворачивается женщина спиной к мужчине, если не хочет почувствовать его пальцы у себя на плечах. Слабеет длинная прекрасная шея от этих пальцев. Опускаются руки. Распахивается, как дверь в немыслимое, одежда. И тело, как бездонная чаша, белеет в полумраке. И ты пьешь его, пьешь, не в силах оторваться и распробовать весь вкус его. Пьешь, хмелея от каждого глотка, и выливаешь на себя, и тонешь в этом беспредельном очаровании и сумасшествии, и не можешь утонуть.
— Ты начала курить?
— С тобою не только курить, пить начнешь.
— Хорошо, что я у тебя есть. А то на кого бы ты свалила свои несчастья?
— Нет у меня несчастий. Но не в связи с твоим приходом. Хотя ты и порядочная свинья. Ты что наплел мне по телефону?
— Знаешь? Макс рассказывал, как разводился с женой. Он ведь тюфяк. Смотрел и не видел, слушал и не слышал. Все что-то склеивал. Три года с ней ругался, а понял, что все, когда она стала доброй и ласковой. Равнодушной, значит.
— Ты к чему это все рассказываешь?
— Давай поженимся, что ли?
Она перестала дышать. Положила сигарету. Вздохнула глубоко, с всхлипыванием в конце вдоха. Повернулась. Навалилась горячей грудью. Вгляделась в него глазами, переполненными болью. Тридцать два года. Уже тридцать два года или еще тридцать два года? Морщины вокруг глаз, мешки под глазами. Сосудики на белках. Складка у рта. Искры седых волос. Чуть заметная паутинка на коже у ключиц…
— А ты разве любишь меня?
Молчишь?
— А ты разве любишь меня?!
Молчишь?
— А ты разве любишь меня?!!!
Молчишь? Одевайся, стараясь не замечать безобразное, рвущееся в истерике, рыдающее существо. Ищи в аптечке валерьянку или еще что-то, капай в стакан, вливай в рот. Тащи в ванную, умывай холодной водой. Плесни в рюмку коньяк. Гладь по спине. Говори поганые и лживые слова. Бей по щекам и прижимай, прижимай к себе. Лови в глазах боль и ужас, переходящие в ненависть. Хватай за руки, пытающиеся ударить тебя, и молчи, молчи, молчи.… Суй нашатырь в нос, таблетку снотворного в непослушный рот и уходи, уходи, уходи.… Навсегда.
Стоит бедный у непреодолимого турникета, как побитый пес у мясной лавки. Где-то рядом орет многотысячная толпа, за спиной курят и поругиваются милиционеры в оцеплении. Концерт на Васильевском. Что, Гога, караулишь ненавидимую тобой и ненавидящую тебя богему, ждущую своей очереди отметиться на подмостках?
— Привет.
— Привет.
— Почему не на передовой?
— Не пускают, козлы.
— Опять зоологические проблемы? Не горячись, Гога. Действие равняется противодействию. Может, не тот ракурс выбрал?
— Судьба. Рок движет моим пальцем.
— Объективом?
— Ну, да. Но я ж пальцем нажимаю. Миг ловлю. Поймал тут одного, как он свою потную ладошку положил кое на кого. Что-то кому-то не понравилось, кто-то на кого-то обиделся, и вот администратор этот — по-прежнему администратор, а труженик просветленной оптики — на задворках искусства.
— Гога, делал ли ты когда-нибудь добро?
— В смысле?
— В метафизическом.
— Да я, кроме добра, вообще ничего не делаю. Может, я и нищий только поэтому?
— Связь, на самом деле, не слишком прямая. Но добро — такая штука, которая очень даже допускает мену. Бартер.
— Васька, не тяни корову за хвост.
— Даешь мне карточку, фотоаппарат и ждешь здесь.
— Ну?
— Я делаю для тебя суперкадры.
— Ну?
— Гога, ты меня хорошо знаешь?
— Ты бабник.
— Ну, ты-то ведь не баба? Давай.
Суета. А чего суетиться-то? Пускай звукооператоры суетятся. Правда, если минус один, то голос нужен. Или плюс один? Кто его знает? Макс, когда поет, говорит, минус девяносто девять. Лучше бы, минус сто. Несколько кадров. Вот это зря. Нет. Не выпивающий перед выходом артист, зря. Шуметь не надо. На вашу же все пользу. Все. Ухожу. Делайте, что хотите. Привет. Кто это? Я и не помню тебя. Кордебалет? Наш кордебалет всем кордебалетам кордебалет. Видел бы ты, Гога, этот ракурс вживую… Из-под лесенки. Никакого хамства, только радостное повизгивание. А здесь кто? Она.
Она. Напряжена. Как черный кусок эбонита. Коснись — искры полетят. Идет. С кем-то здоровается. Кому-то кивает. Кого-то не замечает. Идет. Туда. На операционный стол. Сейчас распахнется настежь, обожжет взглядом, голосом, жестом. Где-то на полпути между феей и ведьмой. Где-то посередине между рожденными ползать и небесной сферой. Так. Слепи ее галогенкой. Микрофон ей в лицо.
— Почему вся в белом?
— Замуж выхожу.
— За кого?
— За народ.
Отстранила. Пошла дальше. Прошла мимо него. В метре. Посмотрела в упор. Не узнала. Не захотела узнать. Сделала вид. Ни улыбки, ни гримасы, ни легкого вздрагивания. Мимо. Туда. К толпе. Стой. Не смог сказать. Мы все одно и тоже слышим и видим, или каждый свое?
— Держи, Гога.
— Ну и как?
— В твоей работе есть определенный шарм.
— Еще бы. Это же искусство!
— Слышишь голос?
— Ну?
— Это искусство?
— Хочешь честно?
— Да.
— Ее я так снимать, как я привык, не буду.
— Почему?
— Боюсь. Но не её. Себя боюсь. Боюсь гадостей сделать чуть-чуть больше, чем можно. Больше, чем мне может проститься на том свете.
— Дурак ты, Гога.
— Очень может быть. Но это не важно. Так легче. А все остальное это мое.
Над Москвой летел ее голос.
— Васька, дай денег в долг.
Над Москвой летел ее голос.