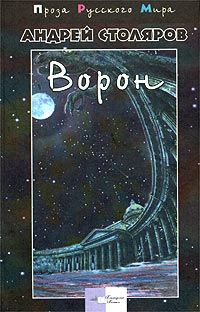Впечатление было — как будто другой человек. И, однако, не это до боли меня поразило. Поразило меня его изменившееся лицо.
— Я вас слушаю, сударь, — вторично сказал бледный юноша.
Но он не был — ни бледным, ни — юношей, ни — вообще. Сухопарый старик вдруг оскалил неровные зубы. Горсткой пыли осыпались волосы с головы. А открытая кожа на черепе стала — темно-коричневая.
И, наконец, был еще третий эпизод, который все расставил по своим местам. Это произошло совершенно неожиданно. Была пятница, конец рабочей недели. Около десяти утра мне позвонила жена и напомнила, что сегодня мы приглашены к дяде Пане.
— Мы уже два раза переносили, больше неудобно, — сказала она.
Сообщение меня не обрадовало. Я совсем не хотел идти к дяде Пане. Там меня заставят пить водку и слушать пустопорожние разговоры. А я, честно говоря, не люблю пить водку и слушать пустопорожние разговоры.
Тем не менее, я ответил:
— Ладно, — и бросил трубку.
Дядя Паня меня совершенно не волновал. Потому что мы, как всегда, были в легком запаре.
С утра принесли сводку. Если верить данным, собранным за последние дни, то, по-видимому, частота «явлений» несколько увеличилась. Они теперь происходили раз в неделю, группируясь по-прежнему исключительно в старой части города: на рабочих картах она была обозначена как исторический центр. Так же, видимо, возросла и интенсивность событий. Все опрашиваемые ссылались на беспричинный и неоформленный страх. Начиналось обычно глубокой ночью. Человек, просыпаясь, вдруг неожиданно осознавал, что находится в какой-то ужасной трясущейся клетке. Или — в камере. Или — глубоко под землей. Здесь обычно существовали некоторые разночтения. Но участники всех событий были согласны между собой в одном: слишком тесно, и
— приближается нечто чудовищное. Очень мало кому удавалось преодолеть этот страх. Выбегали на улицу, падали, расшибались. Было пять или шесть достоверных случаев, когда выбросились из окна. В общем — паника, массовый приступ клаустрофобии.
Правда, значимость данных из сводки была относительно невелика. Их, конечно, еще было надо сопоставлять и анализировать. Мы упорно работали с ними всю первую половину дня. И всю первую половину дня я настойчиво наблюдал за Лелей Морошиной. Неужели она в самом деле нас продает? Я пока не осмелился кому-либо передать слова Лени Курица. Кстати, вовсе не потому, что я не верил ему. Я как раз ему верил, но — были мучительные сомнения. Этак, знаете, можно любого — за шиворот и обвинить. Да и Леля Морошина вела себя очень естественно. Без смущения и без каких-либо явных притворств. И ничуть не походила на тайного осведомителя. В общем, здесь я пока еще ничего не решил.
А в обед меня неожиданно вызвали в отдел кадров. Кадровик наш, Степан Степаныч, одернул зеленый френч:
— Тут с тобой хотят побеседовать… м-м-м… два товарища…
— Какие еще товарищи? — удивился я.
Но Степан Степаныч значительно пожевал губами и поскреб длинным ногтем щепотку усов:
— Отнесись, пожалуйста… м-м-м… серьезно. И, пожалуйста… м-м-м… ответственно… Застегнись!
Он провел меня за секретную дверь, обитую листовым железом, где в соседней зашторенной комнате сидели двое людей. Оба были в военных кителях с золотыми погонами. Генерал-лейтенант Харлампиев и генерал-лейтенант Сечко.
— Так, — подумал я, в растерянности останавливаясь. Ничего подобного я, разумеется, не ожидал.
Генерал-лейтенант Харлампиев грузно поднялся мне навстречу:
— Николай Александрович?.. Буквально несколько слов. — И мотнул тяжеленными низкими щеками, как у бульдога. — Все в порядке, Гриценко, ты можешь идти!
Кадровик развернулся, отчетливо выщелкнув каблуками.
— Вы присаживайтесь, Николай Александрович… Буквально на пару минут. Извините, запамятовал: вы, кажется, курите? — Он придвинул мне пачку каких-то импортных сигарет, а по левую руку поставил глубокую хрустальную пепельницу. Судя по количеству окурков, они сидели уже давно.
Подозрительно все это было и мне чрезвычайно не нравилось.
— О работе Комиссии я говорить не буду, — сразу же отрезал я. Сел напротив и положил ногу на ногу. Отодвинул сигареты и пепельницу на край стола. Я хотел продемонстрировать полную независимость. И поэтому вяло сказал: — Я вас слушаю, генерал…
Генерал-лейтенант Харлампиев рассмеялся — несколько принужденно.
— Что вы, что вы, Николай Александрович, у нас совершенно другой вопрос. Если б нам вдруг потребовались сведения о работе Комиссии, то мы просто бы получили их официальным путем. Например, обратились бы, как положено, к товарищу Половинину. Я не думаю, что Комиссия что-нибудь скрывает от нас. Ведь, в конце концов, все мы делаем — общее, нужное дело.
Как-то неуверенно он обернулся к генералу Сечко. И Сечко, привалившийся к сейфу, небрежно кивнул:
— Разумеется.
— Что конкретно вы от меня хотите? — спросил я.
Генерал Харлампиев сел и немного откинулся, — так что лампа, свисавшая с потолка на голом шнуре, жестяным своим колпаком очутилась у него над затылком. Шевелюра окрасилась в яркий малиновый цвет. Я и не замечал до сих пор, что Харлампиев, оказывается, — рыжий.
— Два вопроса, — секунду помедлив, вымолвил он. — Не считаете ли вы, Николай Александрович, что ситуация стала критической? Я не думаю, что следует — вам объяснять… Власть сегодня фактически парализована. Городское хозяйство разваливается на глазах. Нарастают — преступность, апатия, дикое разгильдяйство…
Я прервал его:
— Не стоит перечислять, генерал. К сожалению, в данном моменте я с вами совершенно согласен. Вероятно, вы знаете это не хуже меня.
Генералы обменялись удовлетворенными взглядами. А Харлампиев, кажется, даже чуть-чуть подобрел. И растер мощной дланью багровую толстую шею.
— Хорошо. А позвольте тогда еще один небольшой вопрос. Лично вы, как мне кажется, человек безусловно порядочный. Но вы думали… когда-нибудь… о своей семье. Я в том смысле, что мы стоим — на пороге хаоса.
Я почувствовал, что у меня похолодело внутри.
И поднялся:
— Только не надо меня запугивать!..
— Что вы, что вы! — сказал генерал Сечко. Равнодушным, высоким, бесцветным, казенным голосом. — Вас никто не запугивает, молодой человек.
И опять они обменялись удовлетворенными взглядами. А Харлампиев, тоже поднявшийся, очень бодро и очень весело произнес:
— Ну! Я вижу, что вы прекрасно все понимаете. Много лучше, чем некоторые из ваших коллег. Значит будем — работать, работать, работать… Если — что, то прошу без стеснения — прямо ко мне!
И обитая дверь, прошуршав по линолеуму, затворилась. Вот такой — заковыристый — получился у нас разговор. Он в дальнейшем имел чрезвычайно серьезные и неожиданные последствия. Но тогда о последствиях этих я не мог и думать. Я лишь мучился явным предчувствием некоей смутной опасности. Разумеется, Леля Морошина тут же вылетела у меня из головы. Три часа, будто проклятый, я просидел над данными сводки. Цифры, факты и показания рябили в глазах. Перемешиваясь, превращаясь в какую-то кашу.