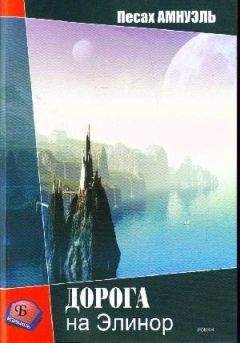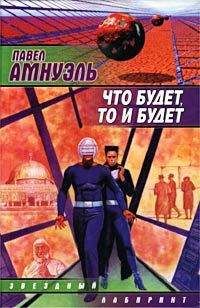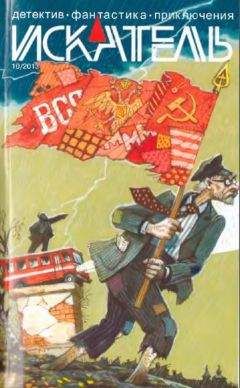— Я ничего не скрывал, — сказал Терехов. — Для чего мне было скрывать, если я же и позвонил вашему начальнику? Милиция хотела закрыть дело, а я сказал, что…
Терехов замолчал, потому что в памяти у него происходили мелкие подвижки — одни события с легким щелчком перемещались в тень, во мрак, в небытие, а другие появлялись на свет, как голуби из шляпы факира, и в этом перемещении затерялось имя милицейского майора, он хорошо помнил это имя, иначе и звонить бы не стал. Действительно, не стал бы. А разве звонил?
— Да-да, говорите, — приветливо закивал Лисовский, подгоняя заблудившуюся память. — Когда это вы звонили моему начальнику? Я не к тому, что этого не было, но странно, что майор Збруев ничего о вашем звонке не знает. Знал бы — сказал бы мне, это очевидно.
— Збруев? — Терехов попробовал фамилию на вкус памяти и не узнал ее, не Збруеву он звонил, если звонил вообще.
— Збруев, Збруев, — ворчливо проговорил Лисовский. — Не знаете такого? Если не знаете, то кому звонили?
Он круто повернулся на стуле, посмотрел в лицо Терехову пристальным следовательским взглядом, и Терехов обратил внимание на то, что у Лисовского глаза другого цвета — вчера были темно-карие с зеленоватым отливом, а сейчас — черные, и вовсе не изменение внешнего освещения было тому причиной. Даже выражение лица у следователя изменилось, от цвета глаз зависит многое, Терехов прекрасно это знал; можно не обратить внимания на цвет роговички, но на выражении лица цвет глаз отражается, как отражается в зеркале вода пруда — мутная или чистая, с примесями или мелкой, невидимой взгляду, живностью.
— Простите, — сказал Терехов. — Вчера… Вроде бы мы с вами вчера уже разговаривали, верно?
— И вчера, и позавчера, — охотно подтвердил Лисовский, не пряча своего изменившегося взгляда, а даже напротив, устремив на Терехова два острия, прокалывавших его сознание, будто две черные пики. — И каждый раз вы придумывали что-нибудь новое, я уверен был, что сейчас вы мне опять начнете лепить…
— Лепить… — повторил Терехов.
— Значит, два вопроса я задал, а теперь еще третий, в свете вновь открывшихся обстоятельств: когда это вы звонили по поводу дела Ресовцева моему начальнику, майору Збруеву?
— Не Збруеву, — пробормотал Терехов. — Не знаю я никакого Збруева…
— А у меня нет другого начальства, кроме майора, я имею в виду непосредственное начальство, или вы не в отделение звонили, а выше? Уж не на Петровку ли?
— Не звонил я никуда, — сказал Терехов, пытаясь вспомнить, действительно ли именно это его заявление соответствует реальности. — Извините, я… Мало спал ночью, голова пустая…
— Выпить хочется? — с понятием спросил следователь и поискал вокруг своими черными глазами заначенную бутылку водки — писательская богема наверняка имела чем опохмелиться утром, но не надо потворствовать, выпьет — вообще отключится, считай, что зря приходил.
— Выпить? — Терехов спросил себя, дал себе отрицательный ответ и покачал головой. — С Ресовцевым мы говорили о единстве мироздания. Это я только что вспомнил, потому раньше не мог… А в убийстве меня Ресовцев не обвинял, как он мог обвинить меня в убийстве, если был еще жив?
— Действительно, — с показным добродушием сказал Лисовский. — Он был еще жив, но через пять минут после разговора с вами оказался мертв. А в разговоре сказал: «Что ты делаешь со мной? Убийца!»
— С чего вы взяли? — воскликнул Терехов. — Не говорил он так! Кто вам сказал, что он… Вы же не слышали!..
За последнюю фразу Лисовский ухватился мгновенно, будто за веревку, брошенную очень удачно и вовремя.
— Техника, — сказал он, — в наши дни позволяет…
Следователь наклонился над портфелем, лежавшим у его левой ноги, как верная собачонка, покопался внутри и достал диктофон, нажал на клавишу, положил аппарат на стол рядом с уже наполовину исписанным листом бумаги, диктофон зло зашипел, что-то в нем — или в записи — звякнуло, треснуло, будто разорвали перед микрофоном кусок полотна, а потом послышался долгий гудок, еще один, трубку наконец сняли, и Терехов услышал незнакомый голос, сказавший «Алло! Я слушаю!» Голос он не узнал, но догадался, что это был, видимо, его собственный голос, себя никогда не узнаешь в записи, особенно, когда все шипит, будто шкварки на сковородке.
— Это я? — спросил Терехов, и Лисовский, не отвечая, поднял вверх палец: молчи, мол, и слушай дальше.
А дальше голос Ресовцева — его-то Терехов узнал, поскольку уже слышал, и не только по телефону — произнес, задыхаясь от возмущения: «Что же ты со мной делаешь? Ты же убиваешь меня, понимаешь ты это? Убийца!»
А дальше пошел хрип, будто глушилка работала по вражьему зарубежному голосу — Терехов таких глушилок не застал, но отец рассказывал, и сравнение именно сейчас показалось особенно уместным.
— Вот, — Лисовский поморщился и выключил диктофон. — Аппаратура современная, а телефонные сети — старье, вот и… Кстати, чтобы вы не тратили лишнюю энергию — эксперты дали заключение о том, что это голос Ресовцева. Запись его голоса мне предоставила вдова, он какую-то классику вслух читал… Так что не сомневайтесь.
Терехов и не сомневался. Он точно помнил тот разговор, если единственную длинную и безответную фразу можно назвать разговором. «Ты взял у меня жизнь! Я писал эту книгу двадцать три года. Элинор. Левия — женщина, которую… И жить ты будешь, потому что умру я»…
Вот так. Слово в слово.
— Ну что? — спокойно спросил Лисовский.
— Откуда у вас эта запись? — задал Терехов глупый риторический вопрос. — Вчера еще…
— Вопросы позвольте задавать мне, — покачал головой следователь. — Три вопроса. Вы дадите ответы на каждый? Давайте со второго: так почему Ресовцев обвинил вас в убийстве?
— Не знаю, — пожал плечами Терехов. — Вы сами записали разговор… Может, это актеры какие-то… Хорошо, я не настаиваю… Но если мы с ним говорили по телефону, а через несколько минут… это случилось… То у меня алиби, разве нет?
— Нет, — покачал головой Лисовский. — Голос Ресовцева опознан экспертами, это именно он. Ваш голос опознать не удалось — или мало текста, или… это были не вы. Звонок, однако, был произведен по вашему номеру, и Ресовцев был уверен, что говорил именно с вами. То, что хотел сказать, он сказал. Ваше алиби этот разговор не подтверждает. К сожалению. И вы были у Ресовцева накануне вечером, тогда, видимо, между вами и произошло то, что на другой день привело его к гибели и к обвинению вас в убийстве. Логично? Тем более, что разговор вы от меня скрыли. Вот я и спрашиваю: что между вами произошло?
— Мы говорили… То есть, он говорил, а я слушал. И ничего не понимал. Тогда — ничего. Я и сейчас не очень, но тогда точно ничего.