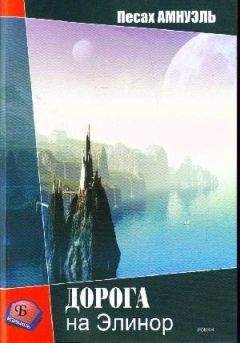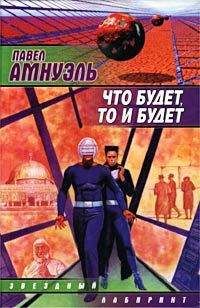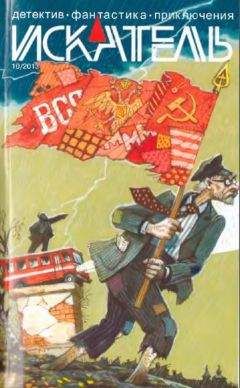— Мы говорили… То есть, он говорил, а я слушал. И ничего не понимал. Тогда — ничего. Я и сейчас не очень, но тогда точно ничего.
— Вы могли бы изъясняться понятнее? — недовольно проговорил Лисовский.
— Понятнее для кого? — обозлился Терехов. — Я сам пытаюсь понять. Для вас это банальный случай то ли убийства, то ли самоубийства. А для меня… Мир меняется, вы понимаете? Все, что я представлял…
— А конкретнее?
— Он говорил о том, что мироздание гораздо более бесконечно, если можно так выразиться, чем мы его представляем.
— Гораздо более — что? — не понял Лисовский.
— Бесконечно, — сказал Терехов.
— Ну и… дальше? — подбодрил его Лисовский.
— Мироздание бесконечно, — с удовольствием продолжил Терехов. Слова принадлежали не ему, но из подсознания всплывали, будто готовые пельмени на кипящую поверхность воды, вкусные, только в рот клади. — Мы знаем материальное мироздание, но, кроме материи, в мире есть еще и то, что материей не является. Реальное не меньше, чем Солнце, автомобиль или заяц в лесу. Но — не материальное. И не дух, кстати говоря. Дух — это тоже материя, иное ее состояние, производное сознания, движение элементарных частиц.
— Стоп, — Лисовский надавил на клавишу, остановил запись и внимательно посмотрел на Терехова. — Что вы мне рассказываете? Курс философии естествознания?
— Нет такого в философии естествознания, — возразил Терехов, раздосадованный тем, что его прервали. Пельмени перестали всплывать, возникло странное давление в затылке, будто прикрыли крышку кастрюли, и нужно было выпустить пар, иначе станет больно, и в конце концов крышку сорвет, и окажется Терехов, в психушке, где и даст, наконец, этому следователю признательные показания.
— Вы хотите меня уверить, что с Ресовцевым в тот вечер обсуждали исключительно научные темы? Между вами не произошло ссоры? Скажем, на бытовой почве? Или из-за вашей книги, которая как раз вышла из печати?
— Нет, — твердо сказал Терехов. — Никакой ссоры.
— Почему же вы скрыли этот разговор от следствия?
— Я о нем не помнил!
— Вам не кажется это… странным?
— Кажется! Мне все кажется странным в этом деле! Все! Например, когда вы в первый раз ко мне пришли, у вас были темно-зеленые глаза, а сейчас черные, и это я тоже вижу совершенно отчетливо.
— Ну и что? — пожал плечами следователь. — Мне это все говорят — с детства еще. При одном освещении у меня роговичка зеленая с примесью темно-синего, а при другом — почти черная. Что тут странного?
— Вот как… — Терехов растерялся. Действительно, все просто. Почему он не подумал? Может, и остальные странности тоже…
— Сейчас, — сказал он и пошел из гостиной. Лисовский последовал за ним, Терехов не мог представить, что могло прийти следователю в голову. Может, он решил, что подозреваемый, оказавшись вне его поля зрения, накинет себе на шею петлю? В кабинете Терехов подошел к полке, снял книгу и протянул следователю со словами:
— Какого года издание?
— Восемьдесят восьмого, — прочитал Лисовский. — И что? Я знаю, что первая ваша книга вышла в восемьдесят восьмом.
— В девяносто четвертом! До прошлой ночи я был уверен… то есть, что значит уверен, я знал точно, потому что так и было всегда, как могло быть иначе, если все это случилось в моей жизни, и я помнил каждое мгновение, это невозможно забыть, когда на прилавке появляется твоя первая книга, как ребенок, Алена тогда… нет, Алена ни при чем, но это было в девяносто четвертом!
— Не кричите, — морщась, сказал Лисовский. — Вот книга, и вот дата. А на мои вопросы вы отвечать отказываетесь, верно я понимаю?
Он вернулся в гостиную, спрятал диктофон, поставил подпись внизу страницы протокола, пододвинул лист Терехову и протянул ручку. Терехов покачал головой, не то чтобы он отказывался подписать, но прежде хотел прочитать написанное, а буквы прыгали перед глазами, текст выглядел арабской вязью. На каком языке писал Лисовский? Пусть сначала переведет и растолкует, тогда и подписать можно…
— Как хотите, — следователь не стал настаивать, положил лист между другими такими же.
— Да, — сказал он, уже подойдя к двери, открыв ее и выглянув на лестничную площадку. — Не уезжайте из города, хорошо? Я не беру с вас подписки о невыезде, просто прошу. Надеюсь, что все разъяснится, хотя вы и не даете повода так думать.
— Я никуда и не собирался, — пробормотал Терехов.
— В следующий раз я вас вызову к себе, — сообщил Лисовский. — Хотел, чтобы дружески, дома… Не получается. В отделении, может, пойдет иной разговор. А?
И ушел, не став дожидаться лифта.
* * *
Просьбу следователя Терехов перевыполнил — он не только из Москвы не уехал, но даже из квартиры не выходил. Бродил по комнатам, звонил время от времени Жанне по всем ее телефонам, ответа не получал, садился к компьютеру, включал его, но, дождавшись полной загрузки, немедленно выключал — боялся то ли изображений на экране, то ли собственного подсознания, способного опять сыграть с ним жестокую шутку. Еще одного путешествия в мир, созданный воображением, он бы не выдержал.
Терехов почти не ел, из еды в доме остались только сыр ярославский, нарезанный тонкими ломтиками, колбаса полтавская, одним куском, початая банка сметаны, неизвестно как оказавшаяся в холодильнике, потому что Терехов точно помнил, что сметаны не покупал, он вообще ее не любил, тем более на розлив, а еще в морозилке была пачка украинских пельменей, и он отколупывал от слипшегося куска по две-три штуки, бросал в кипевшую на плите воду и съедал, как только белые поплавки всплывали из глубины на поверхность.
Должно быть, все это время он размышлял, сопоставлял, пытался прийти к логическому заключению. Может быть. Но ничего не запомнилось. Время просочилось сквозь пальцы и растаяло, и он не знал даже, сколько его было — часы, дни, недели, годы…
Спать не хотелось, и он не спал. За окном все время было светло, но, возможно, он просто забывал о тех часах, когда наступала ночь и он задергивал шторы, чтобы не действовала на нервы мигавшая реклама на крыше дома напротив. Может, он даже спал, но, проснувшись, забывал об этом. Он обнаруживал постель разобранной, простыни — смятыми, и хотел навести в спальне порядок, но тут же забывал и потому, обратив через какое-то время внимание на скомканное одеяло, спрашивал себя: неужели я только что проснулся?
Ответа он не помнил, ответ был вне его восприятия действительности, а действительность странным образом располагалась вне его понимания.
Иногда звонил телефон, и Терехов поднимал трубку, будучи уверен, что звонит Жанна. Но это был кто-нибудь из приятелей, предлагавший прошвырнуться и покорно принимавший очередной отказ. В конце концов Терехов перестал подходить к телефону — он почему-то уверил себя, что звонить Жанна не станет, придет сама и войдет, открыв дверь своим ключом. Даже то обстоятельство, что оба ключа от квартиры Терехов обнаружил висевшими на крючке в прихожей, не заставило его согласиться с очевидным заключением, что сама открыть дверь Жанна не сможет, и значит, начнет звонить, а на звонки он отвечать не собирается, даже если это звонки в дверь — тем более, если это звонки в дверь, потому что, кроме Жанны, прийти мог только следователь, а видеть его Терехов не то чтобы не хотел, но не считал возможным для своего измученного организма.