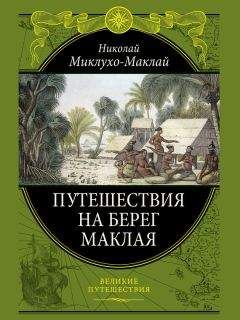Тиомец Бом внезапно выключил свой аппарат-новинку, и Виктор с Зоей исчезли, даже не успев пожелать нам спокойной ночи.
— Он не совсем в порядке… — сказал тиомец Бом.
— Аппарат?
— Да. В прошлый раз я по рассеянности повернул «близь» и забыл про «даль». Это надо делать одновременно. Мой робот-техник — отсталое существо. Механический лентяй, тяжелодум с устаревшей программой. Разве можно его допускать к такой вот новинке? Как выражались в вашу эпоху — «напортачит». Придется вызвать инженера.
Простившись с тиомцем, я вышел на улицу. Бом предложил проводить меня, но я решительно отказался. Зачем? Гостиница тут же, на этой улице. На этой же? Улица сразу напомнила мне о вселенной, как только закрылась за мной дверь. Я очутился один на один с бесконечностью. Я шел среди звезд и домов в просторе, не знавшем границ. Пространство со всех сторон охватило меня. В какой же стороне гостиница? Куда идти? Налево? Направо? Вперед? Рядом, совсем близко, были звезды.
В шестидесятых годах XX века люди знали о бесконечности бесконечно мало. Они знали о бесконечности из учебника астрономии и редко думали о ней как о чем-то практически реальном. Вокруг нас были дома, леса, поля, сады. И их масштаб вполне соответствовал привычному масштабу наших ощущений. Вы шли по улице, зная, что объем вашего мира заранее известен. Что бы вы сказали, если бы к вам на знакомой улице к самым глазам приблизилась неизвестность?
Я шел по улице, которая уносилась в бесконечность. Я все же был не один. По улице двигались пешеходы. Компания молодых людей обогнала меня. Один из них читал вслух стихи:
Глядя в будущий век, так тревожно ты,
сердце, не бейся,
Ты умрешь, но любовь на Земле никогда не умрет.
За своей Эвридикой, погибшей
в космическом рейсе,
Огнекрылый Орфей отправляется
в звездный полет.
Он в пластмассы одет, он в сверхтвердые
сплавы закован,
И на счетных машинах
его программирован путь.
Но любовь есть любовь, и подвластен
он древним законам,
И от техники мудрой печаль
не легчает ничуть.
Незадолго до того, как отправиться в свой продолжительный рейс, Ольга принесла книжку стихов Вадима Шефнера и прочла вслух эти строчки:
Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной,
И в тоске и надежде идет по далекой планете
Песнопевец Орфей, окрыленный любовью земной.
— Вот и тебе, мой Орфей, — говорила она, — может быть, придется заковать себя в сверхтвердые сплавы, когда ты отправишься на поиски своей Эвридики.
Она не знала и, разумеется, не догадывалась о том, что будет другое, более мощное средство, чтобы предохранить меня от бренности и перенести туда, где до меня никто не бывал.
Два зеленые солнца, пылая, встают на рассвете,
Голубое ущелье безгрешной полно тишиной…
Ольге очень нравился этот эпитет — «безгрешной». Он-то и давал ощущение той тишины, которую она вскоре должна была познать.
И вот она ушла в недосягаемую даль. Она продолжала удаляться от Земли, от своего времени, от своей семьи. Я не сразу осознал всю безмерность и тяжесть того, что случилось. На другой день в институте сотрудники ласково, и грустно, и растерянно смотрели на меня. И только Чемоданов, весь сияющий и торжественный, подошел меня поздравить.
— От души завидую, — сказал он, протягивая руку — Да, да, завидую, — повторил он.
«Чему, собственно, завидовать, — подумал я, — тому ли, что я никогда уже не увижу свою любимую жену, хотя буду ждать ее в течение многих-многих лет?»
Я взглянул на Чемоданова, и, странно, это меня чуточку успокоило. Он был такой здешний, такой реальный, такой земной. И он действительно искренне завидовал мне, моей известности, тому, что во всех частях мира ежедневно упоминали имя моей милой жены и заодно мое имя — имя человека, жертвовавшего своим счастьем на благо науки, родины и человечества… Но Чемоданов едва ли мог понять меня, он не был женат и, вероятно, щадя себя, никогда никого не любил слишком сильно. Но зато все другие сотрудники отлично понимали. Многие удивлялись, что я пришел на работу, не остался дома. Дома было в тысячу раз тяжелее — дома, где каждый предмет напоминал мне об Ольге.
В лаборатории, казалось мне, я мог отвлечься от безрадостных дум. Я рассчитывал на это, когда вез в автобусе Колю в его детский сад. Но все оказалось не так, как я думал. И в лаборатории я с не меньшей силой и остротой чувствовал, что случилось непоправимое, что дали времени и пространства разверзлись и уносят Ольгу в то удивительное трехсотлетие, которое возвратит ее и ее спутников на Землю — на Землю, где не будет ни меня, ни Коли, ни даже моих будущих внуков и правнуков.
Раздеваясь и отдавая пальто вахтерше, я увидел шубу Чемоданова, висевшую, как всегда, отдельно, на особом крючке. Мой взгляд с какой-то даже надеждой уцепился за эту шубу, словно шуба своим предметным наличием поможет мне оторваться от тягостных дум и найти необходимое спокойствие.
Шуба Чемоданова пребывала в раздевалке как сколок какого-то особого, сверхконкретного бытия. Не шуба, а словно сам Чемоданов пребывал здесь, в углу, отрицая всем своим видом всякую бренность и относительность.
Вахтерша перехватила мой взгляд, устремленный на чемодановскую шубу, и истолковала его по-своему.
— Ценная вещь, — сказала она — А матерьял какой! Никогда не сносится. Прочность!
«Прочность!» — это и было именно то самое слово, которое было мне нужно в этот момент.
Обидин сидел за столом и писал статью. Димин препарировал кролика. Лиза Галкина возилась с термостатом.
Я сел на свое место в углу у окна и стад рассеянно перелистывать книгу П. Ю Шмидта «Анабиоз». Мой взгляд задержался на абзаце.
«Смерть — не простая остановка жизненных процессов, связанных с белковыми коллоидами, ферментами, гормонами, солями и другими действенными элементами живого организма. Смерть обусловливается разрушением жизненных механизмов с необратимыми изменениями живого вещества, переходящими в распад, разложение… Если не произошло таких нарушений, если механизм жизни цел и не затронут в основном своем строении — возможна полная остановка жизни, не равноценная смерти, и возможно возвращение жизни при изменении условий в благоприятную сторону».
Волнение охватило меня, словно я впервые узнал, что можно победить время и даже самую смерть.