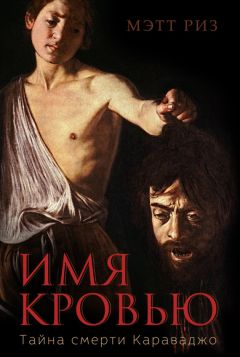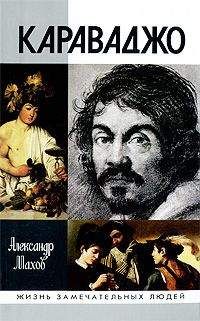Томассони мерил базилику шагами.
– На следующей неделе на соборной площади будет процессия: вынесут кровь святого Япуария. Грешники на коленях поползут за ней, молясь, чтобы она вновь стала жидкой и потекла. И тебе стоит к ним присоединиться и молить об отпущении своих грехов. Ах да – тебе ведь не нужно прощение, безбожник. Что же, можешь не беспокоиться, я только что получил от Его Святейшества помилование за участие в дуэли. Твой дружок Онорио тоже прощен. Один ты в бегах.
Караваджо услышал тяжелый хлопок отдернутого занавеса: Томассони искал его за гобеленами!
– Моя семья хочет, чтобы семейство Колонна выплатило возмещение за убийство Рануччо, – ты ведь их выкормыш. Пока мы не получим деньги, я тебя не убью. Но это не значит, что я не награжу тебя sfregio– позорным шрамом.
Томассони, рыча, перевернул стол и завопил:
– Где ты спрятался, сукин сын?
В дверях показался монах. Он заговорил с испанским акцентом, обращаясь к Томассони:
– Ты забываешься, сын мой! Ты ведь в обители Божьей.
Томассони вложил в ножны шпагу и поставил стол на место.
– Прошу прощения, святой отец, – сказал он хрипло и пристыженно.
– Оставь пожертвование святой Марии Столпнице и уходи.
Караваджо услышал звон монеты о металлическое блюдо и удаляющиеся шаги Томассони.
Монах приблизился к боковому приделу и остановился в ожидании. Караваджо покинул свой тайник, опустив глаза.
– Тебе лучше выйти через ризницу, а потом – через монастырь, – монах почесал тонзуру и засунул руки в рукава своего белого облачения. На нем красовался крест тринитариев, принявших обет спасать души тех, кто был захвачен в рабство маврами. – У главных дверей тебя уже поджидают.
– Пожалуй, мне не стоит от него бегать. Со мной ничего не случится, святой отец, – и Караваджо направился к выходу.
Но монах удержал его, схватив за локоть:
– Я не про того громилу. Там мальтийский рыцарь.
Караваджо содрогнулся. За ним пришел Роэро.
– Сюда, – монах провел Караваджо вверх по винтовой лестнице. Когда они проходили по галерее монастырской стены, он выглянул из окна. Внизу, во дворе церкви, в красном рыцарском камзоле стоял, прислонившись к колонне, Роэро.
Сердце Караваджо сжалось, словно его ударили в грудь кулаком. Он последовал через всю обитель вслед за монахом и очутился на улице.
* * *
Караваджо смотрел на свое незавершенное произведение «Бичевание Христа». Иисус, привязанный к столбу, извивался, словно от щекотки. Два палача – один сбоку, другой у ног, – казалось, желали Христу не больше зла, чем почтенный даритель картины – некий синьор де Франши, присевший с противоположной от страдающего Спасителя стороны. Караваджо поджал губы и нахмурился. Картина слишком напоминала работы предшественников и в который уж раз повторяла ложь, ставшую каноном.
Несколько дней он, почти не выходя из мастерской, менял тон холста. И Роэро, и Томассони были в Неаполе, поэтому ему оставалось лишь сидеть в стенах дворца и работать. Но недовольство собой только усиливалось. Он бы и бросил картину, но в соборе Святого Доминика ее ждала стена у главного алтаря, а испанский наместник, управляющий Неаполем, повелел ему заполнить это пустое пространство. Глядя на картину, он чувствовал только утомление, безразличие и скуку. Ему хотелось домой, к Лене. Эта неудовлетворенность заставила его забыть об осторожности.
Он отбросил палитру и стащил через голову блузу. Накинув камзол, спрятал за пазуху кошелек, заткнул за пояс кинжал и под вечер отправился в таверну Серильо.
– Снова ты, онтуфато? Ну, здравствуй! – Стелла встала ему навстречу из-за стола, за которым собирались продажные девки. Походка ее не отличалась изяществом: она шагала, переваливаясь, будто хромала на обе плоские, обутые в сандалии ноги, а руками на ходу махала так, что загребала воздух. Но в гордо выступающей дворянке Караваджо не нашел бы и сотой доли той красоты, какую видел в неуклюжей Стелле.
– Да вот не работается никак, все мысли о другом, – Караваджо велел принести кувшин вина и ужин.
– Хочешь, развею твои грустные думы? – она села рядом с ним и обвила его шею руками, прижимаясь к нему грудью.
– Ну, для этого тебе придется потрудиться.
Она улыбнулась. Что-то не так было в ее лице: зубы крохотные и неровные.
– Это молочные зубы, – объяснила она, – они у меня так и не выпали.
Зубы невинного ребенка в размалеванном рту шлюхи. Ему показалось, что сейчас оттуда вырвется крик голодного младенца, но женщина грубо расхохоталась и укусила его за шею.
Трактирщик принес кувшин гранатово-красного альянико и тарелку артишоков. Микеле поделился ужином со Стеллой. Та подняла свой кубок:
– Пусть кровь святого Януария потечет, как это вино!
«Ах да, чудо! – вспомнил Караваджо. – Три раза в год в городском соборе сухая кровь из жил святого снова разжижается».
Он поднял стакан, недоверчиво ухмыляясь.
– Не веришь, онтуфато? – прищурилась Стелла. – Если кровь не потечет, Неаполю плохо будет. Каждый год, когда это чудо обходит нас стороной, случается извержение Везувия, или война, или неурожай, или чума.
– Не волнуйся, – усмехнулся Караваджо. – Если в городе я, кровь точно потечет.
Лицо Стеллы омрачилось страхом.
Он положил на стол несколько монет, погладил женщину по щеке и пошел к двери.
– Даже если у святого кровь не потечет, в моей-то можешь не сомневаться.
Узкий месяц едва виднелся на небе. Караваджо пробирался в почти полной темноте. Он остановился и прислушался, не идет ли кто за ним. Глупо было в такой поздний час покидать безопасный дворец. Микеле облизнул с усов остатки вина и решил вернуться по узким переулкам Испанского квартала. Там народу меньше и легче заметить того, кто идет следом.
Он прошел пару кварталов в гору и повернул налево, к Кьяйе. В ста шагах впереди горел факел. Осторожно, чуть касаясь стен, Микеле пробирался дальше. В свете факела силуэты четверых мужчин отбрасывали дрожащие тени, их рассерженные голоса эхом отдавались от фасадов домов.
Подойдя ближе, Караваджо разглядел, что один из них раздет и связан. Еще один сидел на корточках у стены, держа факел. Двое других вдруг пнули пленника под колено, и он пошатнулся. Один из мучителей затянул веревку на запястьях узника и дернул его назад. Тот закричал на незнакомом Караваджо языке – гортанном, как мальтийское наречие, и с придыханиями. «Арабский язык, – понял он. – Раб».
Человек, державший веревку, пнул раба сапогом в поясницу, рванул веревку одной рукой на себя, а другой ухватил араба за длинные темные волосы. Он скалился с таким ужасающим злорадством, что зубы Караваджо застучали от страха.