Часть пятая. КЛЮЧИ МАРИИ
Увидели мы друг друга через стекло. Я вошел, но остался у гардероба. Она тотчас вышла из зала мне навстречу.
— Ты был в командировке? — спросила Валерия.
— Да, — рассеянно ответил я, прислушиваясь к тому, что происходило в зале.
— Сегодня день рождения у мсье Леграна, — сказала она, повернувшись так, что виден был ее волнующий нежный профиль; блики света очерчивали линии лица, намного более выразительные, чем запечатлевшиеся в памяти.
— Тот француз, с которым ты познакомилась?..
— Он самый…
А за столом, угол которого был мне виден, оживленно заговорили об аристократах духа и об искусстве, да так громко, что все было слышно.
Две незнакомые девушки выпорхнули на улицу. В широкую щель между гардинами стал виден зал, два сдвинутых стола, кое-кто из сидящих. Мсье Легран под интимно-задумчивый аккомпанемент гитары пел о том, что невысокого светловолосого человека из Назарета казнили традиционным римским способом, а фэры (фарисеи) и садики (саддукеи) бессмертны.
— Где отец? — спросил я.
— В городе, — ответила Валерия. — Он сказал, что не сердится на тебя.
— Я тоже.
— Что — тоже?
— Не сержусь. Старик мне всегда нравился.
— Он спрашивает о тебе.
— Что ты ему отвечаешь?
— Что ты пропадаешь где-то. Забыл его и меня.
— Мне кажется, сейчас за нами наблюдают пять пар глаз.
— Ну и что…
У нее была узкая у запястья ладонь, длинные, сужающиеся к концам пальцы. Я понимал, что она все еще остается загадкой для меня. Может быть, и для себя самой тоже. Странно, что мысль о прошлом не отталкивает меня от Валерии. Даже наоборот… все это не так просто объяснить.
— …Мне известно спорное высказывание Флетчера, — рассуждали там, среди разномастной публики, наблюдавшей мир сквозь цветные стекла фужеров. — Этот англичанин еще в шестнадцатом веке побывал при московском дворе и писал буквально следующее: мужчины питают пристрастие к бане и питью, а женщины — к румянам и краске для ресниц, и после двухчасовых занятий своим хобби те и другие перестают узнавать друг друга. Но положение, друзья мои, коренным образом изменил Петр Первый, который вменил все сие в круг постоянных обязанностей.
— Да, мсье, это так. Печально, что вы еще не успели побывать в русской бане! — раздался чей-то радостный визг; обладатель этого жизнерадостного голоса готов был, судя по всему, ползать на животе по столу.
— Я знала, что ты уехал… Без тебя было плохо. (Валерия откинула голову так, что волосы ее упали с плеч в тень за ее спиной, и очень ясно обозначилась линия подбородка.) И знала, что тебя долго не будет.
— Это преувеличение. Я был во Владивостоке, потом отдыхал в Хосте, под Сочи. Вот и все.
Мы забрались с ней в самый угол, за дверь, за темные шторы. Все же было не по себе. Роль не для меня. Я не знал, что заставило нас стоять здесь. Иногда я просто не мог узнать ее и себя, порывался куда-то уйти.
— Да стой же, никого здесь нет, кроме нас, — горячо и зло выдохнула она; темная зелень ее жакета, юбки с разрезом отгораживали от дневного света, точно вдруг поднялись горы с пологими округлыми вершинами.
На ней были гольфы цвета асфальта с оранжевой тесьмой под коленом, на которой сбоку покачивались легкие гроздья рябины. На ногах — зеленые полусапожки из тонкой замши с темными шнурками и перламутровыми плоскими пуговицами у тонкой щиколотки.
— Я многое знаю…
— Ничего ты не знаешь, — жарко и сердито выдохнула Валерия. — За тот месяц, что тебя со мной не было, ничего нигде не произошло.
— Я виноват…
— Не спеши брать на себя вину, если ничего не знаешь…
— Я знаю.
— Ну и знай!
В коротких перерывах между репликами мы целовались.
— Ты, при чем тут ты…
— Кто поможет тебе и отцу? — спрашивала она.
— Нужно ли помогать мне?
— Да.
С площади Курского вокзала — налево. И еще раз налево, к Яузе, желтой ленте среди улиц, к самой медленной реке. Сначала виден Костомаровский переулок и мост. За мостом на взгорье — церковь Сергия в Рогожской поднимает зеленые купола и колокольню. Ее видно как на ладони. Под белыми ее стенами, ниже холма, летом — таинственно-тревожная зелень, осенью крутые обнажившиеся яузские откосы. Это самое таинственное место в Москве. Если подняться к Андроникову монастырю, над головой вырастут зеленые навершия и флюгеры, серая древняя стена, и вдали, в зеленовато-золотом от солнца просвете, между новыми домами видны кремлевские башни, а справа Строгановский дворец.
После наступления темноты лучше не бродить по знакомым улицам, где высятся груды битого кирпича и голые стены, а сквозь пустые оконные проемы видны ребра балок. Уцелевшие дома на Тулинской и Школьной кажутся островами среди первозданного хаоса. Однажды, когда я прошел под аркой своего тридцатого дома на Школьной, чуть ли не на голову мне упал изрядный кусок деревянного бруса с террасы. Эта терраса выходила во двор, теперь же она обветшала, стекла ее высыпались, деревянная лестница на второй этаж обвалилась. Там, на втором этаже, уже никто не живет. Заборы снесли, и двор стал открытым. Две акации вытянулись так, что их не узнать. Темный гребень кирпичной стены, некогда возвышавшийся над окрестностью, исчез.
Я отказался от попыток осмотреть весь дом. В другой раз я позвонил своему давнему приятелю, который до сих пор каким-то чудом сохраняет за собой две комнаты на другой стороне улицы моего детства.
Под окнами у него шумят пять высоченных лип, и весь двор зелен от травы, от густого мха, покрывающего отмостки и каменное крыльцо, и от древесных крон погожими днями гуляют по траве зеленые тени. Зовут его Терентий Климов. Вижу я его не чаще раза в год, как это водится у хороших знакомых, занятых по горло маленькими и большими делами. Я позвонил ему. Долго никто не снимал трубку. Потом раздался его голос, и я тут же согласился приехать. Шел я к нему от Таганки.
Что-там, в Таганском парке?.. Строительная лихорадка, визжит подъемный кран, на месте танцверанды с деревянным полом, с навесом от дождя — безликие кирпичные стены. Срыты и веранда, и вековые липы, укрывавшие ее, а Верочка-билетерша ныне готовит студентам и школьникам пунш в дискотеке под неестественно оживленные ритмы эпохи ориньянского человека.
Шел я по моей стороне улицы, которая уже была огорожена. Некоторые дома начали реставрировать: это единственная в Москве ямщичья слобода, которая до сего дня уцелела и сохранила свой облик. Не удержался и заглянул в пустое окно нашего дома: там на стене остались обои и выступал из стены железный массивный прут — остаток старинной коновязи.


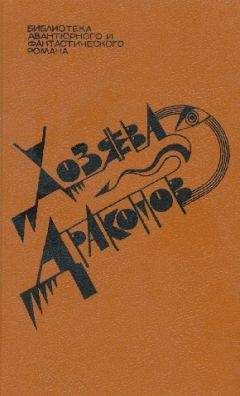
![Ричард Адамс - Обитатели холмов [издание 2011 г.]](https://cdn.my-library.info/books/49785/49785.jpg)
