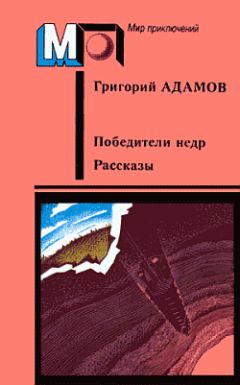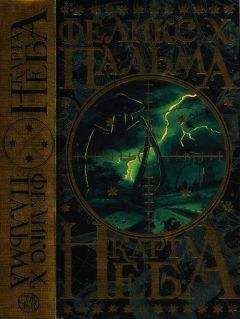— Перед нами, стало быть, широкое, свободное шоссе, — подхватил Брусков. — Следовательно, мы можем дать полный газ… Как ты думаешь, Никита, нельзя ли надбавить ходу? По-моему, в моторах есть ещё кое-какие резервы мощности.
— Попробуй… Плотность породы небольшая.
Брусков начал осторожно увеличивать число оборотов бурового мотора. Через сорок минут он довёл скорость продвижения снаряда почти до одиннадцати метров. Мареев предложил на этом остановиться: нельзя было допускать слишком большой перегрузки механизмов. Чувствовалось, что моторы с трудом подымают огромную массу снаряда.
Малевская, прислушиваясь к их тяжёлому дыханию, сказала:
— Им приходится туго. И всё из-за нашего нетерпения! Может быть, не следовало бы их так напрягать, Никита?
— Не беспокойся, Нина! Это великолепные машины, в них и сейчас ещё таятся резервы на добрых полтора метра в час.
После напряжённого беспокойства первой части пути в известняках все с облегчением вернулись к прерванным работам.
Жизнь в снаряде, казалось, вошла в прежнюю колею, но в поведении обитателей снаряда, в сдержанной порывистости движений, в разговорах, даже в молчании сквозило нетерпеливое ожидание. Всё, что раньше казалось таким далёким, почти нереальным, с каждой сотней метров, оставляемой снарядом позади, облекалось в плоть и кровь, оживлялось тёплым дыханием жизни.
Глубомер Нефедьева стал самым интересным прибором. К нему всё чаще подходили, возле него останавливались, как будто мимоходом, и с пристальным вниманием отмечали каждое движение стрелки к той заветной черточке, возле которой стоял стройный, строгий и волнующий «0»…
Однажды, среди работы, Брусков бросил циркуль на лист с чертежом, нервно потянулся и воскликнул:
— Невозможно! Такое настроение, — хоть возьми да укладывай чемоданы!
Известняки тянулись бесконечной, однообразной массой, перемежаясь иногда с песчано-глинистыми отложениями. На снимках появлялись отпечатки растительности каменноугольной эпохи, листьев, веток, два раза попадались даже целые стволы — лепидодендронов и сигиллярий. Однажды Володя с восторгом наблюдал через окошечко киноаппарата отпечаток небольшой рыбы с плоской головой, как у змеи, и с двумя плавниками возле головы, вроде воробьиных крыльев. Малевская затруднялась сказать, что это за рыба. Она полагала, что это остатки самого раннего представителя акулоподобных рыб из рода Кладодус. С большим удовлетворением она отметила в журнале редкую находку, указав глубину её залегания — тысяча двести пятьдесят четыре метра по вертикали от поверхности — и окружающую породу — песчано-глинистая прослойка.
До поверхности оставалось всего тысяча восемьсот метров по трассе, и, когда Цейтлин появился на экране, Брускову захотелось протянуть ему руку.
Но Цейтлин был так возбуждён, что не понял движения Брускова.
— Ну, давай же руку! — кричал Брусков. — Что значит эта пустяковина — какие-нибудь тысяча восемьсот метров — для рукопожатия друзей!
— Ах, да, конечно! — рассмеялся Цейтлин, протягивая на экране обе руки и потрясая ими в воображаемом рукопожатии. — Но только мне страшно некогда, голубчики мои, — он говорил взволнованно, вытирая платком пот с лица и странно подмигивая из-за огромных очков. — Я к вам только на минуту забежал… Очень тороплюсь… Не задерживайте меня.
— Да в чём дело? — спросила заинтересованная Малевская. — Что за спешка?
— Ничего не могу сказать, — загадочно улыбнулся Цейтлин. — Секретное дело! Меня включили в состав нового комитета… вчера только организовался. Работы уйма, меня совсем затормошили, передохнуть не дают.
— Какой комитет? Какая работа? — набросился на него Брусков.
— Ну, что ты скрытничаешь, Илюша? — говорила Малевская. — Ведь мы скоро будем на поверхности и всё равно узнаем.
— Вот именно: появитесь на поверхности и как раз всё узнаете.
Малевская расхохоталась.
— Илюшенька, милый мой, какой ты прозрачный! Все твои секреты насквозь видны!
Вслед за Малевской рассмеялись Брусков, Мареев и Володя. Последний, собственно, не знал причины общего смеха, но, заражаясь охватившим всех весельем, хохотал громче всех. Цейтлин на экране растерянно моргал глазами. Наконец он не выдержал:
— Ну, чего вы хохочете? Взбесились вы, что ли? Я же ничего не сказал! Да замолчите же!
Цейтлин ушёл, расстроенный и крайне недовольный своими друзьями и собой. Первые были виноваты в слишком большой, по мнению Цейтлина, проницательности, а сам он… Положа руку на сердце он не мог бы сказать, в чём состоит его вина. Но это его не успокаивало: «строго секретное дело» об организации комитета для торжественной встречи «советских подземных Колумбов» раньше всех стало известно именно тем, кто должен был узнать об этом позже всех…
Ещё через сутки снаряд был всего лишь на глубине в тысячу метров по вертикали и на расстоянии в тысячу четыреста метров по трассе. Песчано-глинястые прослойки исчезли. Влажность окружающих известняков сильно понизилась, но трещины на киноснимках стали появляться всё в большем количестве, гуще и крупнее.
Цейтлин не появился на экране в свой обычный час. Это очень огорчило всех. Брусков пытался даже связаться по радио с его квартирой, но из этого ничего не вышло. Цейтлина с утра не было дома, и никто не знал, когда он вернётся.
После обеда Мареев, принявший вахту от Малевской, поднялся в верхнюю буровую камеру. Малевская ушла за полог, собираясь лечь спать. Брусков и Володя сели за шахматы.
Моторы наполняли все помещения снаряда трудолюбивым, напряжённым гудением.
Внезапный гул послышался вдали. Приближаясь и нарастая о чудовищной быстротой, потрясая громовыми раскатами всё тело земли, он обрушился на снаряд, прокатился над ним и замер где-то в далёких глубинах, в бесконечных каменных пространствах.
В то же мгновенье как будто гигантская рука приподняла снаряд, качнула его с боку на бок и с неимоверной силой швырнула обратно. Раздался отчаянный скрежет. Снаряд повернулся и с далеко выдвинутыми колоннами затих в мёртвой неподвижности.
Глава 21
Между отчаянием и надеждой
Чистое, ясное утро 21 июля обещало Москве великолепный солнечный день. Но с выходом первых газет всё померкло. Как будто густые, мрачные тучи опустились над городом. Казалось, свинцовые тени легли на его прекрасное, полное радости и величавого спокойствия лицо.
Все газеты на первой странице поместили набранную крупным шрифтом радиограмму ТАСС из Сталино, центра Донбасса.
Радиограмма сообщала следующее: