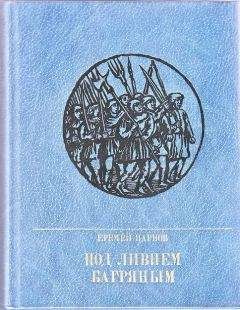— Шестеро.
— Двое против шестерых? Это ничего, это нормально. Мы, Добровольцы, обычно в таком соотношении сил и воевали…
— Отчего же только двое? — ласково сказал Савва Игнатьевич. — Аз, грешный, вас малость смиренно подкреплю, Святым Крестом да Молитвой… ну и кулаком, само собой…
— Удивляюсь я на вас, отче… Откуда у вас, смиренного служителя Господня, такой воинственный дух? — в комическом изумлении всплеснул руками Бекренев.
— Ну так ведь я во времена оны в Народной Крестьянской Армии малость, того… В двадцатом… был такой грех… но оружия в руки всё одно не брал. Состоял медбратом при лазарете…
— А! Батька, так ты значит, у нас будешь махновец?! Да и анархист ещё, поди? — радостно потер руками Валерий Иванович.
— Не махновец. Народоармеец. — возражая наставительным тоном, строго воздел вверх указательный перст батюшка. — А анархия, она суть есмь мать любого порядка. Сугубого же греха в следовании человеколюбивому учению товарища князя Кропоткина нэ бачу!
— Ну, вы, вояки…, — Натка решительно сделала шаг вперед. — А подопечного нашего куда девать?
Дефективный подросток, в настоящий момент деловито правящий, как опасную бритву, о подошву своего ботинка лезвие своей любимой финки, только округлил от удивления глаза. Что, значит, куда его девать?
— М-нда. Один за всех, называется… И все за мной. Ну-с, господа мушкетеры, тогда приступим… Филя, одного я у тебя прошу: больше не говори ты так красиво! Ты меня своими классическими цитатами уже… Залюбил, честное слово, до полусмерти. Закрою глаза, и будто опять я в проклятой гимназии распроклятую латынь долблю…
— Улихть ломать, конат эряйхть, кода панчфнень еткса палакст! — согласно кивнул головой Актяшкин.
— О боги, боги мои! Яду мне, яду…, — простонал Бекренев, вскидывая на плечи сидор.
— Да, дядя Филя, шибко же вас тем бревном по башке долбануло…, — как бы про себя, пробормотал себе под нос дефективный подросток. И тут же огреб от Натки крепкий сестринский подзатыльник.
А главный районный чекист всё смотрел на них, не понимая, что же, черт его побери, тут вообще происходит? Кто они такие?
Бекренев попрыгал на месте, проверяя, не гремит ли у него что, приладил поудобнее поклажу, посмотрел на стремительно темнеющее небо:
— Все смешалось в доме Облонских! Красные, белые, анархисты, мордовские национально-ориентированные интеллигенты и прочие дефективные граждане неопределенной по малолетству политической физиономии… В одном, можно сказать, боевом строю. Это как вообще называется?
— Странный вопрос. Это вот и называется, просто: советский народ. — недоуменно пожала плечами Натка.
2.
— Ах, еж же твою медь! — прямо над ухом Бекренева так звонко грохнуло, как будто раздался в мордовских чащобах выстрел невесть откуда взявшейся трёхдюймовки.
Извилистая молния вновь прочертила аспидно-черное, косматое небо, и буквально в двух шагах вдруг занялась пламенем сухая верхушка одинокой сосны, невесть зачем торчащей у самого края безбрежного болота.
Впрочем, стеной рухнувший ливень мгновенно загасил разгорающийся было лесной пожар, вмиг вымочив путников до нитки.
— Вот и пришли! — с досадой констатировал Валерий Иванович. Чекист Мусягин со стоном ненависти пнул носком сапога ни в чем не повинную кочку, а дефективный подросток только пожал своими узкими плечами: нету фарта!
Действительно, всё в округе утонуло в серых струях дождя, и погрузилось в серую, быстро чернеющую, непроглядную мглу…
— Поворачиваем назад, Филя? К дороге-то хоть обратно ты нас выведешь? По болоту в такую бурю не пройти… — грустно промолвил Бекренев, покрепче натягивая мигом промокший картуз, чтобы его ветром не сорвало.
Но у Актяшкина, как видно, было своё мнение на этот счет.
Он присел на корточки, положил левую руку на черный, сгнивший осиновый пенек, вынул из-за пояса топорик и совершенно буднично тяпнул себя по фаланге левого мизинца.
А потом поднял из мха обрубленный кусок пальца, обещающе показал его болоту, и пропев протяжно мелодичную фразу, далеко закинул его в сыто булькнувшую черную лужу. Лужа с готовностью приняла его подношение. А Наташу немедленно вырвало.
Махнув рукой своим спутникам — мол, малость обождите! — Филя неторопливо направился к трясине. Вскоре его неясная фигура полностью растворилась среди бьющих с черных небес водяных струй…
— Всё страньше и страньше, как говаривала Алиса! — задумчиво пробормотал Бекренев.
Стоявший рядом с ним о. Савва осторожно обернулся на Наташу, стыдливо утиравшую рот, и спросил негромко:
— Валерий Иванович, и это всё, что вам здесь кажется странным?
— Не понял вас, батюшка?
— Сейчас поймете… Мы с вами когда в последний раз кушали?
— Э-э-э…
— Вот и я кажу, шо э! В Зубово-Поляне, не так ли? А здесь мы почему не едим?
— Не хочется, потому что?
— Верно. Не хочется. Мне не хочется, вам тоже не хочется… А Наташе? А Лёшеньке? Подростку всегда кушать хочется, мне ли не знать… И потом: Наташа давно на свою руку жаловалась?
— Давно… постойте, постойте… Раз у неё нерв был задет, то…
— Вот и у меня больная спина прошла. Не болит-с. Совсем. Странно?
— Не знаю, что и ответить…
— А коли точно не знаете, так и помалкивайте пока… Думаю… Дней семь у нас ещё точно в запасе есть, в любом случае… А кстати, вот и наш cicerone возвращается…
«Тьфу ты, чертов мистик, иноходец долгогривый! Совсем меня запугал! Наболтал невесть что, а я как последний дурак, ему верю…» — сердито ругал себя Бекренев.
Как настоящий студент-медик, он был истинным материалистом: вскрыв сотню трупов, он ни разу не обнаружил в них ни малейшего признака души.
— Ша! — поднял вверх Актяшкин свою беспалую руку, с которой серые струи все смывали что-то черное…
Все замерли, прислушиваясь… Навстречу им медленно в густеющем сумраке плыл над ржавой болотной осокой трепетный огонёк… Когда он приблизился, стало видно — это тонким красноватым огоньком горит маленькая плошка, которую несет, тщательно прикрывая её ладонями, так, что свет с трудом просачивается меж тонких переплетенных пальцев, молоденькая девушка в накинутом на голову на манер капюшона лыковом пестере.
Девушка слепо шла, при этом ни на полшага не сбиваясь с таинственной запутанной среди топей и бочагов вязи узенькой тропки, что-то при этом негромко мелодично напевая… И если бы наши странники могли понять, о чём она поёт, то услыхали бы примерно вот такое:
Держательница дома Кудава,
Смотрительница дома любимая,
Ты открой дверь свою пошире,
Подними повыше косяки.
Не одна я зайду,
Не одна я пройду.
Сначала я проведу
Семь человек из родни,
За ними позову отца родного.
Посмелее, посмелее, папенька,
Проходи-ка, папенька, проходи-ка,
Встань ты перед боженькой.
Встань-ка ты около моей маменьки,
Посмотри-ка ты на свою родню,
На семью мою оставленную…
Девушка оступилась, шагнула мимо тропки, провалившись в черную грязь по щиколотку, зашипела, как кошка… Потом, оправившись и поправив свой странный наряд поверх длинной, до пят, белоснежной рубахи с красной вышивкой по вороту и рукавам, продолжила петь: