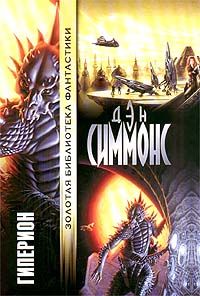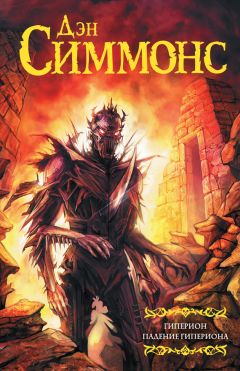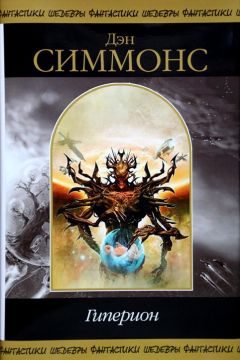Вот так я стал знаменитым на всю Гегемонию, однако первые месяцы славы повергли меня в полнейшую растерянность. Пожалуй, даже предыдущая метаморфоза, когда из балованного дитяти Старой Земли я обратился в разбитого инсультом раба на Небесных Вратах, не настолько выбила меня из колеи.
Чего только не было в эти месяцы! Я посетил более сотни миров, где участвовал в презентациях своего творения, подписывая книги и кристаллы. Меня затащили в шоу «А Сейчас Вся Сеть!» с ведущим Мармоном Гамлитом. Я встречался с секретарем Сената Синистером Перо, спикером Альтинга Друри Файном, а также с дюжиной сенаторов. Я выступал в Межпланетном женском ПЕН-клубе и в Союзе писателей Лузуса. Университеты Новой Земли и Кембриджа-Два присвоили мне почетные степени. Меня чествовали, интервьюировали, имиджировали, рецензировали (положительно), биографировали (неавторизованно), на руках таскали, сериалы снимали и злостно надували. Хлопотное было времечко.
Моя жизнь в Гегемонии (набросок)
В моем доме тридцать восемь комнат, и расположены они на тридцати шести планетах. Дверей нет: просто арки, они же – нуль-порталы; некоторые занавешены приличий ради шторками, остальные совершенно открыты, и ничто не мешает заглянуть или войти. В каждой комнате множество окон и, по крайней мере, в двух стенах – порталы. Большая столовая находится на Возрождении Вектор, и из ее окон видны бронзовые небеса и позеленевшие от времени медные крыши Надежды-и-Опоры, что стоит в долине у подножья моего персонального вулкана, а примыкающий к ней зал приемов, устланный гигантским белым ковром, выходит прямо на берег моря Эдгара Аллана, волны которого разбиваются о скалы мыса Просперо. Это уже Невермор. Окна библиотеки смотрят на ледники и зеленые небеса Нордхольма, а небольшая, в десять ступенек, лестница ведет оттуда вниз, в мой рабочий кабинет – уютную комнатку без стен, расположенную на самом верху башни и накрытую куполом из поляризующего стекла, за которым открывается панорама высочайших вершин хребта Кушпат-Каракорум, что лежит у восточных границ республики Джамму на Денебе-3, в двух тысячах километров от ближайшего поселения.
Огромная спальня, которую я делил с Хелендой, плавно покачивается на ветвях трехсотметрового Древа Мира, растущего на Роще Богов – планете тамплиеров, гранича при этом с солярием, затерявшимся среди солончаков Хеврона. Но отнюдь не за каждым окном девственная природа: конференц-зал с примыкающей к нему посадочной площадкой для скиммеров находится на сто тридцать восьмом этаже экобашни ТК-Центра, а патио – на террасе, выходящей на шумный рынок в старой части постоянно бурлящего Нового Иерусалима. Архитектор, ученик легендарного Миллона Де-Га-Фре, был не лишен юмора: чего стоит, например, лестница, спускаясь по которой, оказываешься на крыше, или гимнастический зал, расположенный в нижнем ярусе глубочайшего из ульев Лузуса и снабженный… смотровой площадкой в стиле «орлиное гнездо», или ванная для гостей укомплектованная умывальником, душем, унитазом и биде, которые красуются на открытом со всех сторон плоту, плывущему по фиолетовому океану Безбрежного Моря.
Поначалу скачки силы тяжести при переходе из комнаты в комнату вызывали легкую тошноту, но вскоре я адаптировался и, прежде чем войти на Лузус, Хеврон или Седьмую Дракона, автоматически напрягал мышцы, а потом столь же неосознанно предвкушал легкость во всем теле, которую сулила пониженная гравитация большинства остальных помещений.
В течение десяти стандартных месяцев нашей с Хелендой совместной жизни дома мы появляемся лишь изредка, предпочитая разъезжать с компанией приятелей по курортам, туристическим купол-кемпингам и прочим злачным местам Великой Сети. Наши, с позволения сказать, друзья – все завзятые нулевики – называют себя теперь «стадом карибу» по имени давно вымершего млекопитающего, кочевавшего по просторам Старой Земли. Это «стадо» состоит из писателей, нескольких преуспевающих видеохудожников, интеллектуалов с Конкурса, журналистов, аккредитованных при Альтинге, парочки-другой паректоров-радикалов и генопротезистов-косметологов, нескольких настоящих аристократов, богатых чудил-нулевиков, наркоманов, прочно севших на флэшбэк, режиссеров тривидения и сцены, завязавших крестных отцов и постоянно меняющейся группы свеженьких знаменитостей… включая меня самого.
Естественно, вся эта публика пила, валялась в фантопликаторах, сажала себе импланты, подключалась направо и налево и кололась самыми изысканными наркотиками. Лучшим считался флэшбэк. Слово это в вольном переводе со староанглийского означает «свет былого». Флэшбэк – порок богачей: чтобы насладиться им по-настоящему, нужен полный набор дорогих имплантов. И Хеленда позаботилась, чтобы у меня было все: биомониторы, расширители ощущений, внутренний комлог, нейрошунты, метакортикальные процессоры, эритрочипы, – чего только в меня не напихали! Как говорится, мать родная не узнала бы.
Я пробую флэшбэк дважды. В первый раз он срабатывает довольно мягко: я хотел попасть на празднование своего девятилетия и попал туда с первого захода. Все как положено: на рассвете слуги собираются на северной лужайке и хором поют поздравления, дон Бальтазар, поворчав немного, отменяет занятия и разрешает нам с Амальфи покататься на ТМП. И вот мы, счастливые от того, что рядом нет взрослых, целый день носимся над серыми дюнами долины Амазонки. Вечер. Факельное шествие. В сумерках прибывают представители других Семей. Подарки, завернутые в яркую блестящую бумагу, так и сверкают в свете луны и Десяти Тысяч Огней. Я провел в этих грезах девять часов и очнулся с улыбкой на лице. Но второе путешествие в прошлое едва не убивает меня.
Мне четыре года. Я ищу маму. Я плачу и мечусь по бесконечным комнатам, пропахшим пылью и старой мебелью. Слуги-андроиды пытаются успокоить меня, но я отталкиваю их руки и бегу по каким-то коридорам, потемневшим от копоти и теней бесчисленных поколений. Нарушив первое усвоенное мною правило, я врываюсь в матушкину гардеробную, ее святая святых, где она ежедневно проводит по три часа и выходит потом оттуда с ласковой улыбкой, а подол ее белого платья шуршит по ковру. Звук этот, едва слышный, напоминает вздох привидения.
Матушка здесь, она сидит в полумраке. Мне четыре года, у меня болит пальчик, и я бросаюсь к ней на колени.
Она не реагирует. Ее изящные руки неподвижны – одна закинута за спинку шезлонга, другая покоится на подушке.
Я вздрагиваю, пораженный этой неподвижностью, и, не слезая с ее колен, отдергиваю тяжелую бархатную штору.