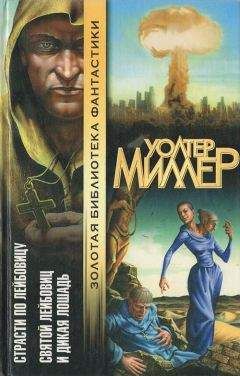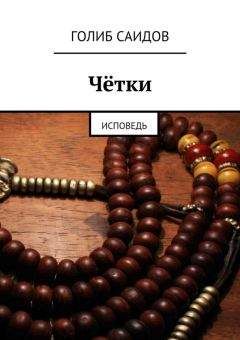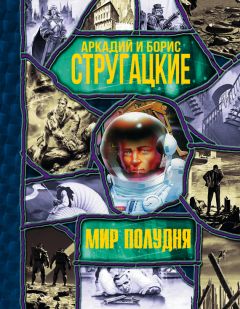— То есть те, кто выживут.
— Это верно… но правда никогда не бывает совершешю полной.
— Нет, нет… двенадцать столетий назад не повезло даже выжившим. Неужели мы снова должны вступить на этот путь?
Тон Таддео пожал плечами.
— Что я могу с этим сделать? — задал он встречный вопрос. — Правит Ханнеган, а не я.
— Но вы обещали, что человек будет владеть природой. Кто будет контролировать использование сил природы? Кому они пойдут на пользу? Чем это кончится? Как вы сможете держать их в узде? Снова могут быть приняты гибельные решения. И если этого не сделаете вы и ваша группа, скоро это сделают другие за вас. Человечество выиграет, говорите вы. За счет чьих страданий? Принца, который едва умеет писать букву своего имени? Или вы в самом деле думаете, что ваш коллегиум сможет остаться в стороне, не удовлетворяя его притязаний, когда он начнет понимать, что вы представляете ценность для него?
Дом Пауло не предполагал, что ему удастся убедить собеседника. Но у него стало тяжело на сердце, когда он увидел, с каким терпеливым равнодушием Тон слушает его: это было стоическое терпение человека, слушающего доводы, которые он уже давно для себя опровергнул.
— На самом деле вы предполагаете, — сказал ученый, — что нам надо еще подождать. Что мы должны разогнать коллегиум или загнать его куда-то в пустыню, каким-то образом — не имея ни золота, ни серебра — выжить, и неким странным образом восстановить экспериментальную и теоретическую науку, никому не говоря о наших деяниях. Ибо мы должны готовить ее для того дня, когда человек в самом деле станет хорошим, чистым, святым и мудрым.
— Я не это имел в виду…
— Да, этого вы не говорили, но это звучало в ваших словах. Замкнуться в кругу науки, отказаться от желания открыть ее миру, не пытаться ничего предпринимать, пока люди в самом деле не станут святыми. Должен сказать, что такой подход не сработает. Вы же поколение за поколением занимались этим в аббатстве.
— Мы никому не отказывали.
— Да, вы никому не отказывали, но, сидя на своих сокровищах, вы вели себя столь незаметным образом, что никто не подозревал об их существовании, и они пребывали у вас втуне.
Глаза старого священника блеснули мгновенной вспышкой гнева.
— Время познакомить вас с нашим основателем, — проворчал он, указывая на деревянную скульптуру в углу кельи. — До того как мир сошел с ума и ему пришлось скрываться в убежище, он был ученым, как и вы. Он основал этот орден для сохранения тех останков, которые еще могли быть спасены из обломков последней цивилизации. Спасены — для чего и для кого? Посмотрите на него, где он стоит — видите его мягкость? Его книги? И миру и сейчас и столетия спустя нужно будет очень мало от вашей науки. Он умер ради нас. Когда они облили его горючим, легенда повествует, что он попросил у мучителей чашку этой жидкости. Они решили, что он ошибся и просит воды, поэтому они, расхохотавшись, дали ему чашу. Он благословил ее — и каким-то образом содержимое чаши после его благословения превратилось в вино — а затем: «Hie est enim callix Sanguinis Mei»[42], и он выпил ее, прежде чем они повесили его и бросили в пламя. Должен ли я зачитывать вам список наших мучеников? Должен ли я перечислять все битвы, которые пришлось нам выдержать, чтобы спасти наши сокровища? Перечислить всех монахов, ослепших в скриптории? И вы говорите, что мы ничего не делали, затаившись в молчании.
— Я не это имел в виду, — сказал ученый, — но в сущности так оно и было. Многие из ваших мотивов близки мне. Но если вы считаете, что вы должны копить мудрость, дожидаясь, пока мир поумнеет, мир никогда не увидит ее.
— Я вижу, что мы не можем преодолеть барьер взаимного непонимания, — мрачно сказал аббат. — Первым делом служить Богу или же первым делом служить Ханнегану — вот перед каким выбором вы стоите.
— Выбора у меня практически нет, — ответил Тон. — Вы хотели бы, чтобы я работал ради Церкви? — и в голосе его ясно чувствовалась нотка горечи.
Была среда, наступившая после Дня Всех Святых. Готовясь к отъезду, в подвале аббатства Тон и его спутники разбирали свои записи и заметки. В их обществе было несколько монахов, и по мере того как приближалось время расставания, все отчетливее чувствовалась окружавшая их атмосфера дружелюбия. Над головами по-прежнему, потрескивая, сияла дуговая лампа, заливая подвал бело-голубым сиянием, которое обеспечивала команда послушников, неустанно трудившихся, вращая динамо. Неопытность новичка, впервые занявшего место на верхней ступеньке лестницы, заставляла лампу время от времени мигать: он заменил своего предшественника, который ныне лежал в лазарете с мокрой тряпкой на глазах.
Тон Таддео отвечал на вопросы о своей работе охотнее, чем раньше, и было видно, что его больше не беспокоят противоречивые точки зрения на вопросы преломления света или претензии Тона Эссера Шона.
— Пока гипотеза кажется бессмысленной, — говорил он, — нужно искать ее подтверждения путем наблюдения тем или иным образом. Я создал некоторые гипотезы с помощью новых — или вернее очень старых — математических изысканий, которые мне удалось обнаружить в вашей Меморабилии. Они, по-моему, предлагают достаточно простое объяснение некоторым оптическим феноменам, но, откровенно говоря, я не думаю, что мне удастся сразу же проверить их. И тут мне может оказать помощь ваш брат Корнхоер, — с улыбкой он кивнул в сторону изобретателя и показал набросок предполагавшегося устройства.
— Что это? — спросил кто-то после паузы краткого удивления.
— Ну… это стопка стеклянных пластин. Солнечный луч, который под определенным углом падает на нее, частично отражается, а частью поглощается. Отраженная часть света будет поляризована. Затем мы ставим эти пластинки таким образом — это идея брата Корнхоера, — который позволяет лучу света падать на вторую пачку пластинок. Она установлена под точно рассчитанным углом так, что отражает почти весь поляризованный свет и почти ничего не поглощает из него. Но если моя гипотеза справедлива, то, включив напряжение в катушке брата Корнхоера, мы должны увидеть внезапную вспышку поглощенной части спектра. И если этого не произойдет, — он пожал плечами, — значит, гипотезу придется отбросить.
— Вместо этого вы можете выбросить катушку, — вежливо предложил брат Корнхоер. — Я не уверен, что она дает достаточно сильное поле.
— А я уверен. У вас есть инстинктивное ощущение конструкции. Мне куда легче создать любую абстрактную теорию, чем придумать, как практически проверить ее. Но у вас есть редкий дар сразу же увидеть воплощение идеи в проводах, линзах, винтах, пока мне остается лишь придумывать абстрактные символы.