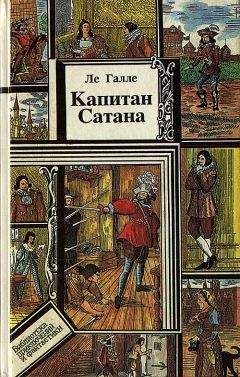— Отец мой, — трепетно начала она, — я пришла за спасением. Клянусь господом единым, я не имею за собой вины. — Священник вздохнул облегченно, но она не услышала это, продолжая: — А у меня родился ребенок, нос которого начинается выше бровей, и мой муж, владетельный сеньор Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак, грозит убить и его и меня, якобы нарушившую супружескую верность. Но здесь, на исповеди, перед лицом самого господа бога, я клянусь жизнью своего несчастного ребенка, что господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак его отец.
— Верю вам, бедная женщина. Слова ваши звучат так искренне, словно подсказаны вам свыше. Чем же можно помочь вам?
— Я не знаю, отец мой, я взываю об этом к всевышнему. Я не страшусь за свою жизнь, но жизнь малютки, который ни в чем не повинен, впрочем, как и я… — И она залилась слезами.
— Успокойтесь, дочь моя, — произнес участливо кюре. — Господь сейчас вразумил меня, и я знаю, что делать. Идите в замок и ощутите в себе то очищение, которое дает исповедь.
Они вышли из церкви, кюре повозился с ключами и пошел проводить Мадлен до шато, пообещав, что завтра поутру он повидается с владетельным сеньором.
Кюре же, возвратясь в свой полудом-полухлев, засветил свечу, чем на время обеспокоил сидящих на насесте кур, достал приготовленную для церкви гладкую доску и стал набрасывать углем чей-то портрет.
Надо сказать, что Арни Патри не сразу посвятил себя служению богу, а не так уж давно действительно жил в Латинском квартале, носил берет, блузу, бороду и занимался живописью, полный радужных надежд, как и другие завсегдатаи таверн, где он встречался с ними. Но произошла драма, потрясшая молодого художника до глубины души. Его подруга, «ослепительная Лаура», начисто обобрав его, исчезла, даже не простившись и ничего не объяснив ему. Страдания Анри Патри были так невыносимы, что он решил оставить греховную светскую жизнь, навеки отказаться от общения с прекрасным полом и посвятить себя служению единому господу.
Настоятель монастыря, к которому он обратился, взялся устроить его в духовную семинарию при условии, что он бесплатно распишет стены только что выстроенной монастырской часовни. Годы, проведенные в семинарии, были тяжелым испытанием, в котором молитвы, нравоучения и наказания сменяли друг друга.
По окончании семинарии Арни Патри дал обет безбрачия и стал священником. Его сразу же направили помощником кюре в одну из ближайших к Парижу деревень, где он и получил теперь приход.
Всю ночь при свете свечи писал красками деревенский священник отнюдь не икону, а утром, сняв с насеста старую пеструшку и молоденького петуха, засунул их в корзину и отправился к владетельному сеньору в его замок Мовьер-Бержерак.
Владетельный сеньор принял его хмуро, с недоумением косясь на корзину, из которой торчала какая-то доска. Но господин Сирано помнил, что для того, чтобы приблизиться к королевскому двору, нужно слыть истовым католиком, и он провел бедного сельского священника, предвидя его просьбы в пользу церкви, в отдельную комнату, украшенную охотничьими трофеями, унаследованными им еще от предков, занимавшихся в отличие от него охотой, имея на то привилегии.
— Владетельный сеньор, я обеспокоил вас, поскольку имел честь крестить вашего сына Савиньона и заметил на его лице некоторые особенности, о которых и хотел побеседовать с вами.
Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак покраснел от сдерживаемой ярости, ибо даже служителю церкви не следовало бы лезть в его семейные дела.
К счастью, кюре упомянул лишь о крестинах, а не о ночном посещении церкви женой Абеля Сирано и пробудил в нем лишь недовольство при упоминании об уродстве сына, а не ярость против «неверной жены».
Меж тем странный кюре вынул из корзины сначала облезлую курицу-пеструшку, а вслед за ней бойкого петушка, который сразу замахал крыльями и вспорхнул на спинку дедовского кресла, красовавшегося в этой убогой комнате, будучи единственным ее украшением.
— Что это вы, отец мой, решили превратить мой замок в курятник? — осведомился пораженный хозяин.
— Я хочу обратить ваше внимание, сиятельный сеньор…
Это обращение польстило Абелю, хотя и не разгладило на его лбу двух резких и глубоких морщин над бровями.
— Вглядитесь в этих птиц, находящихся между собой в некотором родстве, но разделенных тридцатью пятью поколениями.
Господин Абель де Сирано-де-Мовьер-де-Бержерак тупо уставился на священника, по-бычьи нагнув голову.
— Я позволю себе уверить вас, сиятельный сеньор, что этой пеструшке, сохраненной покойным священником нашего прихода, помнящим еще давних владельцев этих земель господ де Бержерак, этой пеструшке, с вашего позволения, исполнилось нынче тридцать шесть лет.
— Что? — обалдело переспросил господин Абель Сирано. — Никогда не слышал о такой долгой куриной жизни.
— Конечно, это так, сиятельный сеньор, поскольку кур никто не держит так долго, они много раньше такого возраста попадают в суп, но, если бы их щадили, они жили бы не меньше этой пеструшки, с которой начал наш старый кюре свой опыт.
— Какой же опыт и какое мне до него дело, отец мой?
— Старый священник обратил внимание на пеструшку, когда она была еще цыпленком. Посмотрите, у нее на правой ноге не три, а четыре пальца.
— И вправду так, — подтвердил Абель де Сирано. — С чего бы это?
— Старый наш кюре тоже задумался над этим и решил выяснить, в каком поколении повторится этот уродливый признак у кур, которые произойдут от странной пеструшки, а ее он сохранил как живое доказательство в его научном исследовании, какие так поощряются у нас в монастырях, давших приют замечательным ученым вроде аббата Мерсенна.
— Слышал, слышал. Так наш кюре же умер.
— Скончался, сиятельный сеньор, так и не дождавшись результата начатого им опыта. И уже после его смерти из яйца вылупился вот этот петушок. Помня заветы старого кюре, я, дав ему слово продлить его опыт, храню теперь и пеструшку и петушка, для которого она тридцать четыре раза бабушка.
— Что-то не пойму, то тридцать шесть лет, то тридцать четыре раза бабушка.
— Так ведь цыплята выводятся и вырастают в течение года, годовалые куры кладут яйца и дают новый выводок. В первый год пеструшка была матерью первых своих цыплят, а в следующие годы — бабушкой, прабабушкой, прапрабабушкой и так тридцать четыре раза бабушкой.
— Мудрено, — покачал своей квадратной головой владетельный сеньор и погладил вислые усы.
— Вот и я хотел задать вопрос вашей светлости: можете ли вы представить себе облик своего предка в тридцать пятом поколении, что-то вроде тысячи лет назад, как бы в шестисотом году после рождения Христова?