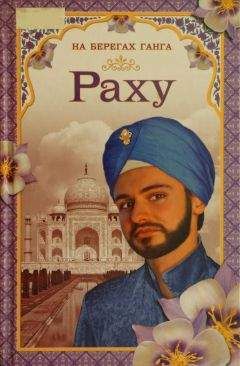Да, Торку худо сейчас. И Хону не легче. Торкова дочь сгинула, потерялась в Бездонной Мгле, и Хонову сыну скоро подойдет срок туда же кидаться. Вот так: скоро. Столяр-то надеялся, что Лефу долго обучаться придется — прочих Витязей по нескольку лет учили, а ведь одноруких среди них вроде бы до сих пор не бывало… Но Нурд говорит, будто Леф уже теперь его самого не хуже — это Гуфа, случайно зашедшая переждать дождь, рассказала такое.
Бешеный его разберет, почему оно этак получается. То ли и впрямь парень вовсе не таков, как прочие, то ли Нурд решил, что раз Лефа за себя оставлять не придется, то и стараться нечего… Только Нурд вряд ли на подобное скотство способен. Да и неважно это — не было еще случая, чтобы витязное искусство кому-нибудь помогло из Мглы воротиться.
Ну почему, почему даже не попытался Нурд отговорить, запретить парнишке выдуманную им глупость? Ведь глупость же! И Ларду не выручит, и сам сгинет не за древогрызью отрыжку… А может, не поздно еще? Может, умолить Нурда, чтоб сам уходил, а Лефа ремнями прикрутить к хижине, не пускать? Напрасная мысль. Жизнь к телу ремнем не прикрутишь.
Потому-то Хон и не отважился Лефову затею ломать, что понял: все равно парень либо тоской себя изведет, либо вовсе… Как сестрица Лардина, легкой ей Дороги… Пусть уж лучше в Бездонную — вдруг да помилует, отпустит обратно? Все-таки он Незнающий, Мгле не чужой — таких-то Витязей тоже ведь еще не бывало… Верно, и Раха похоже думала, иначе бы мужниных запретов перечить парнишке боялась, как прошлогодних плевков. Раха… Хорошо, хоть она к колодцу отлучалась, не слыхала страшных Гуфиных слов…
Принесенная старой ведуньей новость и погнала Хона от враз опостылевшей работы в корчму. Да еще страх перед тем, что не сумеет он скрыть эту самую новость от Рахи, которая вот-вот вернется домой. Да еще внезапная муторная неприязнь к собственной хижине. Просторная хижина, крепкая, долговечная — сам ведь перестраивал… Умение, душу клал… Зачем? Для кого? На их-то с Рахой век и худой берложки хватило бы. Забрезжило нынешним летом, что вот, может, Леф с Лардой… Что на вот этот сучок так и просится люльку подвесить… А теперь, похоже, десятка дней не пройдет, как Истовые объявят, будто Мгла милостиво дозволила парню владеть проклятым снаряжением (уж они-то медлить не станут, они-то знают, кому из Витязей нынче убираться из Мира). И все. Как в той песне Лефовой: «… и над могилами надежд… ».
* * *
В узкий проем незавешенного оконца впархивали снежинки — впархивали и гибли, сожранные чадным пламенем трескучего факела. Леф следил за их медленным невесомым полетом с таким вниманием, словно важнее всего была теперь судьба этой мерзлой влаги, рожденной среди черноты ночного ненастного неба лишь затем, чтобы, провалившись сквозь похожую на лезвие обоюдоострого ножа щель ветхой стены, умереть от тепла и скудного света. Но, может, и впрямь не было сейчас ничего важнее?
Где-то за спиной возится Нурд, полязгивает железом, вздыхает, двигает что-то увесистое. Тихо-тихо. Или напоминать о своем существовании не хочет, или просто он далеко — очень уж велика эта неуютная пещера, которую Прошлый Витязь называет чудным словом «зал». Смешно: Нурд — Прошлый Витязь. А Нынешним Витязем со вчерашнего дня стал Леф. Только это ненадолго.
Днем Истовые присылали сюда, к Гнезду Отважных, вестуна, и тот проорал под стеной, что свершилось, что Мгла дозволила брату-человеку Лефу наложить руку на сотворенное ею и сказать: «Отныне — мое». А еще возвестил посланник, будто до рождения нового солнца заявятся двое послушников на телеге, дабы везти одного из Витязей к Бездонной. Затемно повезут, укутанного в черное, — все, как велит обычай.
Обычай мудр. Кому из Витязей уходить — прошлому, нынешнему ли — это им самим решать надлежит. Те, кто обычай выдумывали, они все-все предусмотреть догадались. Даже такую нелепость, что прошлый может остаться, а нынешний уйти. Сам. Собственной доброй волей. Да, воля-то, конечно, добрая и своя, но почему-то никак не получается заснуть. Наверное, просто жалко растранжирить на сон последнюю возможность сидеть, глядя на снежинки, на ночное окно; ощущать плечом промозглую сырость камня, пальцами — струганую прохладу лежащей на коленях виолы… Ощущать себя. Выдастся ли завтра такая возможность, ведомо одной только Мгле. Вот именно: Мгле.
И Нурд тоже не спит, мается. Нурд хороший. В тот день, когда Гуфа привела к нему увечного парня, Витязь (тогда еще просто Витязь, не Прошлый) сказал, глядя сверху вниз в Лефовы умоляющие глаза: «Не бойся. Ежели только ты сам себе помехой не станешь, то до стойкого холода я тебе все отдам, что умею». И он отдал все. Отдал и сумел заставить принять отданное, хотя Леф поначалу действительно крепко мешал и ему, и себе.
За недолгую Лефову жизнь в этом Мире многие учили его разным разностям, но никто еще не пытался учить так, как Нурд. Витязь не втолковывал, не показывал, он говорил: делай. И часто уходил, словно ему безразлично было, выполняет ли парень то, что велено.
Прыгать на одной ноге взад-вперед по заваленной битым камнем площадке, пока от изнеможения не потемнеет в глазах. Когда потемнеет — прыгать на другой ноге.
С маху валиться на щебень — спиной, животом, боком — как угодно, только чтобы с маху и не ушибаясь.
Тяжеленной дубиной попадать по не то перьям, не то пушинкам каким-то, летящим из подвешенного на ветру дырявого мешка, пока этот самый мешок не опустеет. Если чаще промахивался, чем попадал (если ты сам считаешь, что чаще промахивался, чем попадал), — наполнить мешок вновь.
Той же дубиной отбивать крохотные камушки, которые внезапно швыряет в тебя нелепый твой учитель — швыряет и вскрикивает: «Середина! Конец! Рукоять!» Прежде чем он угомонится, ты либо с голоду околеешь, либо поперек себя извернешься, чтобы отбивать каждый из этих ненавистных камней именно той частью дубины, какой приказано.
Напялить на культю почти доверху забитый песком узкогорлый горшок и выделывать им те же глупости с пухом и камешками.
А после всего этого драться с Нурдом, с умелым здоровым мужиком Нурдом, у которого две стремительные руки и в каждой зажата палка.
От тягостного непонимания Лефу хотелось бесноваться и выть. Временами мнилось ему, что Нурд решил показать, насколько несбыточно желание однорукого дурня сделаться Витязем. Или по внезапно открывшейся черствости души он просто измывается над увечным? Или (что вернее всего) вознамерился невыносимыми сложностями отвратить приятелева сынка от смертельной затеи? Чем дольше мытарил себя Леф подобными домыслами, тем сильнее озлялся, тем чаще срывалось с его кривящихся губ угрюмое «не могу» в ответ на Нурдовы изощренные выдумки. Слыша такое, Витязь не бранился, не пытался принуждать, уговаривать. Он просто вовсе переставал замечать парня, пока тот, хрипя от ярости, не принимался выполнять назначенное. Лишь однажды, когда вконец изнемогший от безуспешных попыток разогнуть скрученную узлом бронзовую полоску Леф повалился на землю с громким надрывным плачем, Нурд хмуро сказал: