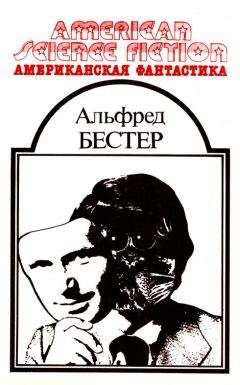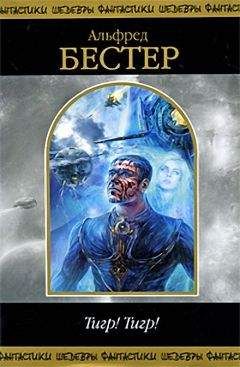— Бог ты мой, Барбара… Бэри, милая. А я-то уж решил, что ты это серьезно.
— Вот тебе расплата за то, что сделал меня взрослой.
— Ты всегда была злопамятным ребенком.
— А ты придирой. — Барбара отклонилась назад и посмотрела на него. — Какой же ты на самом деле? Какие мы оба? Успеем мы узнать друг друга?
— Успеем?
— Прежде чем… Нет, не могу сказать. Лучше прочитай у меня в мыслях.
— Так нельзя, моя хорошая. Скажи сама.
— Мэри Нойес мне рассказала. Все рассказала.
— О! Вот как?
Барбара кивнула.
— Но мне все равно. Все равно. Она права. Я на все решусь. Даже если ты не можешь на мне жениться…
Он засмеялся. Его радостное возбуждение вот-вот готово было хлынуть через край.
— Ни на что ты не должна решаться, — сказал он. — Сядь. Я хочу задать тебе один вопрос.
Она села к нему на колени.
— Вернемся еще раз к той ночи, — сказал он.
— В Бомон Хаузе?
Он кивнул.
— Мне трудно говорить об этом.
— Это займет меньше минуты. Ну а теперь представь: ты в постели, спишь. Потом вдруг просыпаешься и стремглав бежишь в ту комнату. Ты помнишь остальное…
— Да.
— Всего один вопрос. Тебя разбудил крик. Что за крик?
— Ты сам знаешь.
— Я знаю, но хочу, чтобы ты сказала. Скажи вслух.
— А что, если у меня… А если опять будет припадок?
— Не будет. Говори.
Она долго молчала, потом тихо проговорила: «На помощь, Барбара!»
Он кивнул.
— Кто это кричал?
— Как кто? Ну, конечно… — девушка вдруг замолчала.
— Кричал не Бен Рич. Зачем ему было звать на помощь? Он в ней не нуждался. Кто же кричал?
— Мой… мой отец.
— Но он не мог говорить, Барбара! У него был рак горла, он и слова не мог вымолвить.
— Я услыхала его.
— Нет, приняла телепатему.
Она вскинула на него глаза. Потом покачала головой.
— Нет, я…
— Ты приняла телепатему, — мягко повторил Пауэл. — Ты скрытый эспер. Отец позвал тебя телепатически. Если бы я не был таким ослом и не сосредоточил все мысли на Риче, то давно бы уже догадался. Когда ты жила у меня, ты бессознательно прощупывала и меня и Мэри.
Барбара все не могла усвоить эту мысль.
— Ты меня любишь? — вдруг спросил он.
— Люблю, конечно, — тихо отозвалась она, — только, по-моему, ты выдаешь желаемое…
— Кто это спрашивал?
— О чем?
— Любишь ли ты меня?
— Да ведь ты сам только что… — она запнулась, но все-таки попробовала договорить. — Ты сказал… т-ты…
— Я ничего не говорил. Теперь ты поняла? Вот почему нам не нужно ни на что решаться.
Прошло, казалось, несколько секунд, а на самом деле добрых полчаса, когда страшный грохот на террасе над их головами заставил их отстраниться друг от друга и с удивлением взглянуть вверх. На каменной стене появилось какое-то голое существо. Некоторое время оно стояло, что-то невнятно бормоча, взвизгивая и подергиваясь всем телом, потом низверглось вниз, скатилось по клумбам цветника и плюхнулось на газон, дергаясь, как гальванизированная лягушка и крича истошным голосом. Это был Бен Рич, почти неузнаваемый, полуразрушенный.
Пауэл быстро повернул Барбару к нему спиной и прижал к себе.
— Ты по-прежнему моя девочка? — проговорил он, взяв ее за подбородок.
Она кивнула.
— Я не хочу, чтобы ты видела это. Это не опасно, но тебе не нужно на это смотреть. Беги-ка в павильон и подожди меня там. Будь умницей, ладно? Отлично. Ну, беги, скорей!
Она схватила его руку, быстро поцеловала и, ни разу не оглянувшись, перебежала через газон.
Пауэл проводил ее глазами и, когда она скрылась, повернулся к Ричу.
Когда в Кингстонском госпитале человека подвергают Разрушению, то разрушают всю его психику. В результате серии осмотических инъекций разрушение начинается с самых верхних пластов сознания, корковых слоев, постепенно продвигаясь вглубь, размыкая все циклы, стирая все виды памяти, истребляя все накопленное психикой со дня рождения. И по мере того как пласт за пластом стирается мироощущение пациента, каждая клетка, возвращая свою долю энергии, превращает его тело во вздрагивающий клубок, в водоворот распада.
Но не в этом боль, не в этом ужас Разрушения. Самое страшное состоит в том, что сознание не покидает человека, что, в то время как стирают душу, разум сознает свою медленную, движущуюся вспять смерть, сознает, что в конце концов тоже исчезнет, и ждет нового рождения, и прощается с жизнью, и скорбит на собственных нескончаемых похоронах.
В мигающих, вздрагивающих глазах Бена Рича Пауэл увидел это сознание своей гибели, и боль, и трагическое отчаяние.
— Как это он умудрился отсюда сверзиться? Что его связанным, что ли, держать? — Над стеной террасы появилась голова доктора Джимса. — О, здравствуйте, Пауэл. Вот ваш приятель. Вы его помните?
— Очень живо.
Обернувшись назад, Джимс распорядился:
— Пройдите на газон и подберите его. Я с него теперь глаз не спущу. — Он повернулся к Пауэлу. — На редкость энергичный малый, прямо бурлит весь. Мы возлагаем на него большие надежды.
Рич пронзительно завизжал и дернулся.
— Как проходит Разрушение?
— Великолепно. У него такой запас жизненных сил, что хватит на что угодно. Мы воздействуем на него по ускоренной системе. Через год он должен быть готов к новому рождению.
— Я жду этого с нетерпением. Нам нужны такие люди, как Рич. Жаль было бы его лишиться.
— Лишиться? Каким образом? Не думаете же вы, что такой пустяк, как это его падение со стены…
— Нет, я имею в виду совсем другое. Три или четыре сотни лет назад наш брат полицейский ловил людей, подобных Ричу, только для того, чтобы предать их смерти. Это называлось «смертная казнь».
— Вы шутите.
— Честное скаутское.
— Но это же бессмыслица! Если у человека хватило смелости и таланта, чтобы переть против общества, он, несомненно, незауряден. Его нужно ценить. Исправьте его и превратите в положительную величину. Зачем его уничтожать? Если мы станем разбрасываться такими людьми, так у нас, чего доброго, останутся одни овцы.
— Не знаю. Может быть, в те времена им и нужны были овцы.
На газон рысцой примчались санитары, подняли Рича, поставили на ноги. Он кричал и вырывался. Мягко и искусно утихомиривая его с помощью особых приемов кингстонского дзюдо, они быстро проверили, нет ли у него переломов или растяжения, и, удостоверившись, что все в порядке, повели его прочь.
— Одну минутку, — окликнул их Пауэл.
Он взял со скамьи таинственный сверток и развернул его. Это была коробка конфет, одна из самых великолепных, какие только продавались у «Сюкре и Си». Пауэл подошел к разрушаемому человеку и протянул ему коробку.