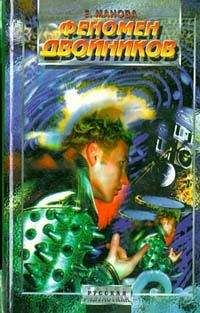— Ули, Ули! — А я не гляжу. Неохота мне на него глядеть. Придвинулось оно, трогает меня рукой своей холодной и опять:
— Ули, Ули!
И чую: тревожно ему, маятно. И опять, жалостно так:
— Ули!
Ну, тут у меня злость прошла. Одно ведь оно у меня, как сердиться? Ткнулся лицом в белое его морщинистое брюхо, и стало нам обоим хорошо. Побыли так, а после за прежние дела взялись. Стал мне Наставник рассказывать о них помалу. Так, по капле, сколько за раз пойму. Что всегда они под землей жили, и вся глубь подземная в их воле. Всюду у них ходы-проходы и дома их подземные, и еще всякое такое, что я не пойму. Что народ они великий и могучий, и знать не ведали, что сверху могут разумные жить. Потому, по их выходит, что сверху жить никак нельзя. То жара сверху, то мороз, и еще что-то другое, от чего умирают вскорости. А колодцы, вроде нашего, — это чтобы дышать, и будто колодцев таких тьма-тьмущая.
Я ему и говорю:
— Отпустил бы ты меня, Наставник! Худо мне тут. Мне глазами надо глядеть, ушами слушать, средь живого жить.
Подумал он и отвечает погодя: «Понимаю, мол, что тебе здесь не очень хорошо, но ты должен остаться, Ули. Очень, мол, это важно и для вас, и для нас».
— А потом, — спрашиваю, — ты меня отпустишь?
— Да, — говорит, — когда мы сделаем это самое, очень важное дело.
Поплакал я после тихонько, а больше не просился, потому как почуял, что и впрямь надо. Потому что боль в нем была и страх, мне и самому чего-то страшно стало.
И опять пошло: всякий день что-то новое. Говорили мы уже почти вольно, бывало, конечно, что упремся — больно мы разные. Мне то помогало, что я его нутром понимал. Застрянем, бывало, Наставник объясняет, а я слов и не слушаю — ловлю, что он чувствует, что в себе видит — так и пойму. И все уже по-другому вижу. Про приборы знаю, что у меня в комнате стоят, — для чего они. Знаю, какой можно трогать, а какой — нельзя, и что они показывают. То есть не показывают они вовсе, а говорят — так, как все подземные говорят: таким тонким-тонким голосом, что его моими ушами не услышишь. Это Наставник мне вместо большого устройства разговорного такую штуку сделал маленькую, чтоб ее на голове носить. Она-то их голос для меня слышным делает, а мой — для них. А что обмолвился, — так для них что видеть, что слышать. Просто эта моя штуковина так сделана, что я слышу, когда они говорят, а когда только смотрят — не слышу.
Я теперь по всей лаборатории хожу — так это место зовут. Наставник здесь теперь и живет, только я об этом не понял. Я ведь выспрашивал — интересно мне, как они между собой, про семью там, про обычаи. А он и не понял, вот чудно! Так, выходит, что у них всяк сам по себе, никому до другого дела нет. Ну, Наставник мне, правда, сказал, что оно не совсем так: заболеешь или беда какая стрясется — прибегут. А если, мол, все хорошо, кому какое дело?
Я его и спрашиваю:
— А чего ты тогда меня от других прячешь? Коль уж никому дела нет?.. А он мне:
— Погоди, Ули. Это, — говорит, — вопрос трудный, я тебе на него сейчас не отвечу. Ты, — говорит, — мне просто поверь, что так для тебя лучше.
— Эх, — думаю опять, — права бабка была!
Наставнику ведь для меня пришлось свет по всей лаборатории делать. Я-то уже к темноте малость привык, и штука моя разговорная помогает: как что больше впереди — позвякивает, а вот мелочи — все одно не разбираю. И еще не могу, как они, в темноте мертвый камень от металла и от живого камня различать. Живой-то камень — он вовсе не живой, только что на ощупь мягок или пружинит. Они из него всю утварь мастерят, а как что не нужно, — расплавят да нужное сделают.
Так у нас, вроде, все хорошо, а я опять чего-то похварывать стал. И не естся мне, и не спится, и на ум нечего не идет. Глаза закрыть — сразу будто трава шумит, ручей бормочет, птицы пересвистываются. А то вдруг почую, как хлебом пахнет. Так и обдаст сытым духом, ровно из печи его только вынимают. А там вдруг жильем обвеет, хлевом, словно во двор деревенский вхожу.
Наставник топчется кругом, суетится, а не поймет; и мне сказать совестно — пообещался, а слова сдержать невмочь. Ну, а потом вижу: вовсе мне худо — сказался. Призадумался он тут, припечалился. Мне и самому хоть плачь, а как быть, не знаю.
А он думал-думал и спрашивает, что если, мол, даст он мне наверху побывать, ворочусь ли я?
А я честно говорю:
— Не знаю. Вот сейчас думается: ворочусь, а как наверху мне сумеется — не скажу.
Подумал он еще, подумал (а я чую: ох, горько ему!) и говорит:
— Ули, в свое время я не отвечал на часть твоих вопросов, потому что считал преждевременным об этом говорить. Не думаю, что ты сможешь сейчас все понять, но все-таки давай попытаемся. Хотя бы причины, по которым я удерживаю тебя здесь.
Ты, мол, заметил, наверное, как трудно мне было признать тебя разумным существом. Это потому, что мы всегда считали себя единственной разумной расой. Под землей других разумных нет, в океане тоже, а поверхность планеты, мол, это место, где по существующим понятиям жить нельзя. Вы настолько на нас непохожи, что я и сам-де не пойму, как мы сумели объясниться. Но даже, приняв как факт, что ты разумен, я пока не смогу доказать этого своим соплеменникам.
— Сколько, — говорит, — я над этим не думал, так и не смог найти каких-либо исчерпывающих критериев, определяющих разумность или неразумность вида. Главная, — говорит, — наша беда — отсутствие опыта. В таком деле будет сколько умов — столько теорий, и тогда все пропало, потому что бездоказательная теория неуязвима. Есть, — говорит, — один способ доказать, что ты вполне разумен и заслуживаешь надлежащего отношения: развить тебя до уровня нашей цивилизации. Если ты сумеешь говорить с нашими учеными на их уровне и их языком, они не смогут отмахнуться от факта.
— А зачем мне это? — спрашиваю. — Мне, — говорю, — обидно было, когда ты меня за человека не считал, а на них мне вовсе плевать!
— Не торопись, Ули, — отвечает, — сейчас я дойду и до этого. Дело, — говорит, — в том, что считая поверхность планеты необитаемой, мы уже четвертое поколение выбрасываем на нее то, что вредно и опасно для нас самих.
Он еще долго говорил, да я не все пронял. Ну, будто, когда они делают всякие вещи, выходит что-то вроде золы, и она отчего-то ядовитая. Или не зола? Ну, не знаю! Только и понял, что они это наверх кидают, а оно опасное: не только мрут от него, но и уроды родятся. Ну, тут меня уж за душу взяло! Младенчика вспомнил, безрукого, безногого, что первым у Фалхи народился, у того, из Верхней деревни, и так мне стало тошно, так муторно!
А он дальше гнет:
— Ты же, — мол, — понимаешь, Ули, что это дурно. Что если, — мол, — с этим не покончить, то все наверху может вымереть. Мы, — мол, — по всей планете живем, и всю ее отравляем. А если, — говорит, — я не докажу, что наверху разумные живут, никто меня не станет слушать. Или еще хуже: примутся судить и рядить, пока не окажется поздно. Все, — мол, — зависит только от тебя, Ули.