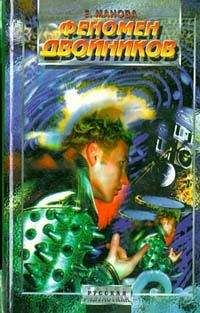Чудной у нас с Наставником разговор вышел. Приметил я вдруг: ус у меня пробивается. А там ведь, наверху, как ус пробился, так и засылай сватов. Кто до полной бороды не женится — считай, старый бобыль. Ну и полезло всякое в голову. Я и спрашиваю у Наставника, дети-то у него есть?
А он опять не поймет:
— Как, — говорит, — я могу это знать?
— А кто, — спрашиваю, — это еще знать может?
Он и рассказал, что они на второй личиночной стадии размножаются, когда еще ни ума, ни памяти. Отложат яйца и закуклятся, а за детьми разумные смотрят. Потому-то взрослыми они о том ничего не помнят, все дети для них свои. Так и живут: все родичи, все чужие. Я, так, честно, и понял, и не понял.
— Неужто, — говорю, — вы так никого и не любите? Неужто в вас такой надобности нет? Мы, — говорю, люди, — без любви — как без свету: нам, если не любить никого, так и жить не надо.
А он подумал и отвечает:
— Наверное, такая потребность все-таки существует, иначе бы я так к тебе не привязался. Видимо, на ранних стадиях нашей цивилизации подобные связи все же были, и какие-то атавистические механизмы сохранились.
— Скажи, — спрашиваю, — а неужто вы так друг другу безразличны, что никому и дела нет, где ты на столько лет затворился?
— И да, — отвечает, — Ули, и нет. Пока ты спишь, я бываю среди соплеменников. Для общения вполне достаточно.
Вот к чему я никак не привыкну — что они совсем не спят. Наставник мне, правда, говорил, что у них мозг по-другому устроен, ему такой смены ритмов не надо. Он у них как-то по кусочкам спит, весь не отключается.
Ладно, тут я ему и говорю:
— Наставник, а не пора нам о людях подумать? Время-то идет, а лучше нам чай не становится. Что я, не гожусь еще, чтоб твоим меня показать?
А он мне:
— Не спеши, Ули. Ты, — говорит, — уже сейчас многих заставишь задуматься, но нам нужны не сомнения, а полная уверенность. Нам, — говорит, — со многим придется столкнуться, а твоя психика еще неустойчива. Помни, что чем полней будет наша победа, тем вероятнее благоприятное решение.
А я сегодня себе сделал штуку, чтобы время мерить! Сам придумал, сам смастерил. Им-то не нужно, у них счет по внутренним ритмам, а у меня-то ритмы медленные, со всяким счетом пролетаю. А тонкий отсчет у них по длине волны зрительного звука, тоже не годится. Прежде-то, как какой точный процесс, я от Наставника — ни на шаг. А теперь — красота! Сколько надо, столько и засек.
Одно плохо: раньше-то я времени и не видел, а тут вдруг почувствовал, как бежит, и душу придавило. Свыкся я что-то с подземной жизнью, за работой и думать о прочем забыл. Оно понятно: день на день не похож, я уже белый свет стал забывать. А тут гляжу, как оно мигает, — и на душе тень. Застрял я между двух миров: от одного отошел, к другому не прибился, — глядишь, скоро позабуду что человек я. И так уж, как отсюда глянуть, такой глупой жизнь деревенская кажется! До того мои соплеменники тупые да жалкие! Вот выйду я на свет божий, как мне меж них жить? А потом и спохвачусь: совсем ты, Ули, зазнался! Ты-то какой сюда попал? Только и было в тебе, что тоска неприкаянная да задор щенячий. Большое богатство! А душу сводит. Ну выйду, ну объявлюсь, — все одно не станут они у меня учиться, ни к чему им. На что они, науки твои, короткоживущим? И тут ровно у меня перед глазами посветлело. Ну да, короткоживущие они — здесь. Отрава тут такая, что жизненный цикл сдвигается. А я-то ведь родом из других мест — там полный век живут. Не знаю, какая там беда, а все-таки может что и выйдет?
Свершилось: накрыли нас все-таки! А все из-за счетчика моего. Генератор-то я так настроил, чтоб он Наставнику не мешал, а паразитных гармоник не учел, вот они, проклятые, и вылезли где-то. Ну, вот и пришли выяснить, откуда помеха.
Я-то заработался, не почуял, а Наставник в экранированной комнате был, тоже не услышал. Так что картина: входит гость неожиданный, а я с вибратором сижу, насадку чиню к микроскопу.
Я сперва удивленье почуял, потом страх — оборачиваюсь, а он в дверях стоит, крюки выставил, рука — в сумке, что в ней — не пойму, а похоже, излучатель. И стало мне тут весело чего-то.
— Наставник! — кричу, — выходи, гости пожаловали!
Он так и вылетел. Смотрит на гостя, а тот все меня щупает:
— Что Это? — говорит.
А Наставник этак с холодком:
— Представитель наземной формы разумной жизни.
А гость будто обеспамятел. Стоит столбом, не пойму даже, что у него внутри делается. А мне еще веселей. Глянул на Наставника, вижу: молчит, и говорю ему:
— Боюсь, для нашего гостя это слишком неожиданно, Наставник. Ты уж ему скажи, что в излучателе надобности нет, ничего ему здесь не грозит.
Тот то ли понял, то ли нет, а руку разжал. Встал, зацепился. И опять:
— Что Это?
А Наставник еще холодней:
— Разумное существо, как вы убедились. Просто осуществляется право на эксперимент, я не счел нужным оглашать результаты предварительных исследований. — И спрашивает: — У вас ко мне дело, коллега?
Ну, тот объясняет нехотя, что от нас идут какие-то паразитные колебания, которые сбивают ему настройку приборов. Наставник вроде удивился:
— У меня, — говорит, — работает только стационарная аппаратура. Она не должна давать помех. Может быть у тебя, Ули?
— Да нет, — говорю, — у меня ничего не включено. Разве что счетчик мой?
— Тогда попробуй, — говорит, — его выключить, а коллега проверит, исчезнут ли помехи.
Ушел тот, а я гляжу — затуманился Наставник.
— Брось, — говорю, — может так и лучше! То бы ты тревожился, себя изводил, а так само вышло. Ты что, сомневаешься во мне?
— Нет, — говорит, — только в тебе я и не сомневаюсь. Я, — говорит, — горжусь тобой, Ули. Из нас троих ты один сейчас вел себя как разумное существо.
И не стали мы больше об этом говорить.
А на другой день вызывают Наставника. Там у них селектор такой есть, так за все-то годы впервые увидел я, как он работает.
Собирается, а я чую: неспокоен.
— Может мне, — говорю, — с тобой?
— Да нет, Ули, — отвечает, — сегодня только предварительное сообщение. Еще успеешь наслушаться.
Ушел он, а я… вот только тут и уразумел, что кончился для меня еще кусок жизни. Зашел я к себе, на постель свою глянул, на приборы мои, чтоб мышцы упражнять, на аппаратик, что в воздух нужные ионы мне добавляет, — и в горле ком. Какой же он, Наставник-то мой, великий ученый, коль сумел, ничего о верхней жизни не зная, здоровым меня вырастить! И какой он… если я здесь… столько лет взаперти… и одиночества не знал! И ежели теперь из-за меня… Хоть прочь беги, чтоб по-старому все оставить! А потом думаю: «Нет! Я его даже ради него самого не предам. Столько-то лет работы — и зря? Хошь не хошь, а победить надо. Для людей и для него.»