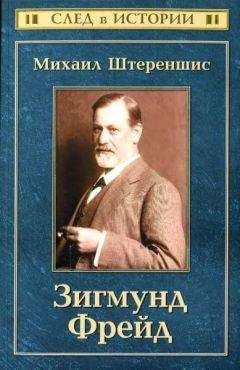Следующей ночью после того, как Жюстин уехала, была жуткая гроза. Я час за часом бродил под дождем, мучимый не только собственными не подлежащими контролю чувствами, но и угрызениями совести, - каково-то сейчас Нессиму, думал я. Честно говоря, я просто боялся вернуться назад, в пустую квартиру, чтобы не отправиться по той же дорожке, что и Персуорден, - как легко, как естественно у него это получилось! Проходя в седьмой раз по рю Фуад, без пальто и без шляпы, промокший насквозь, я случайно разглядел свет в окошке у Клеа и, повинуясь внезапному импульсу, позвонил. Дверь парадного со скрипом растворилась, и я ступил в тишину подъезда, оставив позади темную улицу, где безумствовал дождь, грохотали по асфальту потоки воды из водосточных труб и ревели водопады в сточных люках.
Она открыла мне дверь и с полувзгляда поняла мое состояние. Меня втащили в дом, содрали мокрую одежду и завернули в синий купальный халат. Маленький электрообогреватель показался мне благословением Божьим, а Клеа уже варила на кухоньке кофе, горячий кофе.
Она была в пижаме и уже успела зачесать свои золотистые волосы назад, на ночь. Возле пепельницы с тлеющей сигаретой лежал обложкой вниз экземпляр A Rebours. В окне судорожно метались молнии, освещая, как вспышками магния, ее серьезное лицо. Перекатывался и корчился в темном небе гром. В здешнем озерце тишины и тепла я попытался изгнать хотя бы часть терзавших меня духов и заговорил о Жюстин. Оказалось, она все знает: от любопытства александрийцев не укроешься. Я имею в виду, она знала все о Жюстин.
"Тебе следовало бы догадаться, - сказала вдруг Клеа в середине разговора, - что Жюстин и была той женщиной, в которую я была так влюблена, я ведь говорила тебе, да?"
Эта фраза многого ей стоила. Она стояла у двери с кофейной чашечкой в руке, одетая в полосатую синюю с белым пижаму. Произнеся первое слово, она закрыла глаза, будто в испуганном ожидании: вот-вот на голову ей обрушится удар. Из-под плотно сжатых век пробились две слезинки и сбежали вниз вдоль крыльев носа. Она была похожа на молодого оленя со сломанной ногой. "Давай не будем больше о ней говорить, - сказала она шепотом. - Она никогда не вернется".
Потом я сделал слабую попытку уйти, но гроза грохотала по-прежнему, и одежда моя была совершенно мокрой. "Можешь остаться, - сказала Клеа, - со мной, - и добавила так мягко, что в горле у меня встал ком: - Только прошу тебя - я не знаю, как тебе сказать, - пожалуйста, не трогай меня, ладно?"
Мы лежали вместе на узкой кровати и говорили о Жюстин, а снаружи бесилась гроза и секла по подоконникам косыми струями пришедшего с моря дождя. Клеа совсем успокоилась - такое доверчивое, трогательное смирение. Она многое порассказала мне о прошлом Жюстин, что знала она одна; и говорила она о ней с удивлением и нежностью, как говорят, должно быть, в народе о любимой, пусть даже и безумной королеве. Рассказывая о психоаналитических изысканиях Арноти, она удивленно заметила: "Знаешь, она ведь в действительности вовсе не была умна, в ней говорил инстинкт загнанного в угол зверя. Я даже не уверена, понимала ли она в самом деле, чего они от нее хотели. Но хитрила она только с докторами, с друзьями же была совершенно искренней. К примеру, вся их переписка о словах "Washington D. С.", сколько сил они на нее потратили, помнишь? Как-то ночью - мы лежали с ней здесь же я попросила ее выстроить ассоциативный ряд к этой фразе. Она знала, что я не проболтаюсь, И тут же выдала мне (она явно уже проделала это самостоятельно, не сказав ни слова Арноти): "Недалеко от Вашингтона есть городок, называется Александрия. Мой отец постоянно собирался туда в гости, навестить каких-то дальних родственников. У них была дочь по имени Жюстин, моих же лет. Она сошла с ума, и ее увезли в психушку. Ее кто-то изнасиловал". И когда я спросила о "D. С.", она сказала: "Da Capo. Каподистриа"".
Я не помню, сколько длился тот разговор и скоро ли он растворился во сне, но на следующее утро мы проснулись друг у друга в объятиях и обнаружили, что гроза кончилась. Город был вымыт начисто. Мы торопливо позавтракали, и я отправился к Мнемджяну бриться по улицам, смывшим с себя всю пыль, и небывалой чистоты краски сияли мне навстречу в мягком утреннем воздухе тепло и радостно. Письмо Жюстин все еще лежало у меня в кармане, но я не решался перечитать его, чтобы не нарушить спокойствия духа, подаренного мне Клеа. И лишь начальная фраза продолжала эхом бродить у меня в голове упрямо и назойливо: "Если ты вернешься с озера живым, это письмо будет ждать тебя".
В гостиной, на каминной полке, ждет меня еще одно письмо, мне предлагают двухгодичный контракт - учителем в католическую школу в Верхнем Египте. Я тут же сажусь и, не раздумывая, набрасываю ответ - я согласен. Пускай все переменится еще раз, я хочу освободиться от этих улиц, они преследуют меня последнее время даже во сне; стоит мне закрыть глаза, и я вижу себя бредущим сквозь Город - я ищу Мелиссу меж гаснущих огней арабского квартала.
С отправкой ответа начнется новая жизнь, ибо точка сия означает мое расставание с Городом, где со мной столько всего случилось и такого важного - настолько, что я стал старше. Еще некоторое время жизнь по инерции будет катиться вперед, отсчитывая часы и дни. Те же улицы и площади будут гореть в моем воображении, как горит в истории Фарос. Знакомые комнаты, где я любил женщин, знакомые столики в кафе, где ложились мне на запястье пальцы и я лишался дара речи и чувствовал сквозь раскаленный асфальт под ногами ритмы Александрии, посылаемые ею вверх, в людские тела, а люди способны лишь чувствовать иногда их вкус, как вкус голодных поцелуев или нежных слов, произнесенных голосом, охрипшим от удивления. Для того, кто учится любви, подобные расставания - лучшая школа, горькая, но необходимая, чтобы расти. Они помогают очистить голову от всего лишнего - кроме голода, кроме жажды жить.
А вскоре и все вокруг приходит в движение, не один я собрался уезжать. Нессим едет на отдых в Кению. Помбаля наконец-то окрестили и переводят в другое консульство, в Рим, где, без сомнения, он будет куда более счастлив. Длинная череда ленивых прощальных вечеринок: никого из нас не обошли вниманием, но в общем веселье зияет брешь, нет человека, о коем никто больше и не упоминает, - Жюстин. Ясно также, что по темным кулуарам истории к нам медленно подбирается мировая война, - и нам еще больше хочется жить, хочется друг друга. Сладкий болезненный запах крови висит в темнеющем воздухе и обостряет наше возбуждение, наши привязанности, нашу фривольность. Этой ноты раньше не было слышно.
Уродливые люстры в залах особняка - я их уже почти ненавижу - сияют, освещая толпы гостей; гости пришли сюда, чтобы попрощаться с моим другом. Все они здесь, истории и лица, которые я знаю едва ли не как свою собственную историю, свое собственное лицо. Свева в черном, Клеа в золотом, Гастон, Клэр, Габи. Последние несколько недель я стал замечать - в волосах у Нессима проблескивает седина. Птолемео и Фуад ссорятся с воодушевлением старых любовников. Разговоры, легкомысленные и хрупкие, как стеклянные слезки, и в них искрится, поднимаясь и опадая, типично александрийская живость. Женщины Александрии во всем великолепии изысканной стервозности пришли сюда, чтобы сказать последнее "прости" человеку, сумевшему их заинтриговать - дружбой без страсти. А вот и сам Помбаль, он раздобрел и держится как-то увереннее после повышения по службе. Профиль его приобрел недвусмысленные нероновские очертания. Он беспокоится обо мне, о чем и сообщает мне sotto voce* [Вполголоса (ит.).]; мы почти не виделись последние несколько недель, и о моих планах насчет Верхнего Египта он узнал только сегодня. "Тебе надо уехать, - повторяет он, - назад, в Европу. Этот Город окончательно лишит тебя воли. Что ты забыл в Верхнем Египте? Духота, пыль, мухи, рабский труд... В конце концов, ведь ты не Рембо".