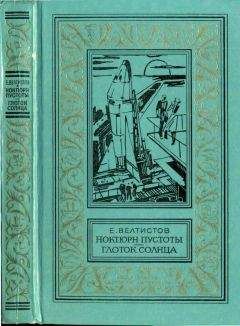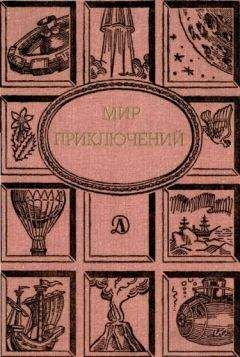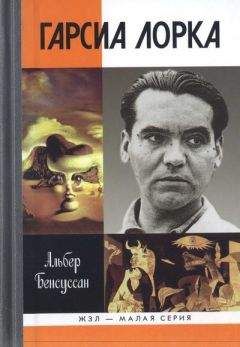— Здравствуй, — сказал я.
Я ждал, что она встрепенется и, как всегда, протянет мне крепко сжатый кулак, который утонет в моей ладони.
Каричка словно не слышала. И режиссер сделал вид, что меня здесь нет, встал между мной и Каричкой.
— Ты забыла текст? Испугалась? — Режиссер говорил очень мягко.
— Я устала. — Она сказала это так, будто прожила века.
Тогда он осторожно взял ее за локоть, подвел к скамейке.
— Сядь. Отдохни. И ушел.
Музыканты стояли молча. И я стоял, не смея подойти. Ждал.
Она подняла голову, долго смотрела на меня.
Какое у нее белое лицо! Я видел только ее лицо и ждал, что она скажет.
— Каричка! — Я подскочил, поймав ее взгляд. — Вот я и прилетел…
Она опять посмотрела, потом тихо и даже удивленно сказала:
— Я тебя не знаю.
Я видел ее глаза, мягкие волосы, тонкую шею. Я мог коснуться ее рукой. Я ничего не понимал.
Каричка взглянула на меня, улыбнулась. А потом вдруг достала из кармана гребенку и стала причесываться.
— Ну что вы стоите? — сказала она всем нам. Мы повернулись и пошли по аллее.
— Нельзя уж и посмотреть. Подумаешь — принц! — сказал один музыкант, и его товарищи засмеялись.
Они ушли, сердясь на женские капризы и насвистывая «Волшебную тарелочку».
Я шел медленно, разглядывая свои ноги. Неестественно длинные, они нелепо торчали из шорт.
Было грустно и все очень непонятно. Я шел среди тишины. Куда-то исчезла музыка и веселье. Я шел и тупо твердил про себя:
«Почему она не узнала меня? Почему?..»
Серый рассвет поднимался над лесом. Туда я и направил машину, набрав предельную скорость и проваливаясь в воздушные ямы.
«Так всех нас в трусов превращает мысль…» Почему-то эта фраза казалась мне обидной.
Я так хотел тебя увидеть, смеющееся лицо моего счастья. А оно оказалось расплывчатым, равнодушным.
Улечу на Марс. Ну кому я здесь нужен?
И только я это решил, пробравшись в палату через окно и покорно вытянувшись на постели, как явился врач, а за ним сестра. Врач, толстенький, с ямочками на щеках — ну просто сияющий восклицательный знак, — потирая маленькие ручки, принялся рассуждать о гонках. Он назвался моим болельщиком и очень переживал, что соревнования сорвались и я свалился в невесомость. Через минуту мне казалось, что я знаю его сто лет. Доктор помнил все гравилеты, на каких я летал, даже когда был мальчишкой. Я с вдохновением поддакивал, вспоминал разные мелочи и рассказал, как гнался за Гришей Сингаевским и как он знал, что я хочу его обогнать, а потом это облако. И тут я смолк и больше ничего не говорил. А восклицательный знак поднял мне веко, заглянул в глаз, дружески ткнул кулаком в живот.
— Сердце работает нормально. И все остальное, — объявил он, довольный осмотром.
— Это вы прочли в глазах?
— Секрет, — улыбнулся он.
Ох уж эти докторские секреты! Как будто я был маленький и не знал, что прослушивала меня ввинченная в пол кровать.
— А долго я был в этом… забытьи? — Я с трудом подыскал слово.
— Пустяки, — махнул рукой веселый доктор. — Спал несколько часов.
Несколько часов! Представляю, какая на меня собрана документация. Электрические, тепловые, механические, химические и разные другие процессы — все это «переваривала» трудолюбивая электронная кровать. До чего сложно устроен человек!
— Задал я вам работу, — искренне повинился я.
— В основном не мне, а Марье Семеновне, — засмеялся доктор.
Я покраснел, вспомнив мальчишескую проделку с тумбочкой. Когда я вернулся, тумбочка была на месте.
— Искала вас в саду, — сказала Марья Семеновна. Она была такой, как я представлял: с добрым лицом и мягкими неторопливыми движениями. Я начал говорить, что люблю гулять по ночам на свежем воздухе, и она опять пришла мне на выручку:
— Все мы были такие.
— Массаж! — кратко резюмировал доктор и удалился в полном сиянии.
А массажист был тут как тут, совсем как в раздевалке спортклуба, и пошли отбивать лихую чечетку его крепкие проворные руки, а когда я перевернулся на спину, то на стуле сидел Аксель. Аксель Михайлович Бригов, мой профессор, наш Старик Аксель. Я встрепенулся, но Старик пробурчал: «Лежи!» — и тогда проворный массажист легонько толкнул меня в подбородок ладонью и принялся уминать брюшной пресс.
Аксель был неизменным, сколько я его знаю. Величественный и торжественный. А маленькие медвежьи глаза смотрят недоверчиво, часто мигая, и я догадываюсь, что это от смущения: он очень не любит незнакомую обстановку. Молчит, и я тоже. Лучше подождать, когда сам начнет.
— Я все видел, — хрипло сказал Аксель, едва массажист скрылся. — Нет, не в телевизоре, — поморщился он на мой кивок. — Потом все видел, когда приехал с побережья. Хорошенькая история, ничего не скажешь.
Представляю, как мы испортили ему единственный за несколько месяцев выходной. Забрался в морские просторы, подальше от пляжей и подводных охотников, «морских чертей», как он говорил, спокойно управлял яхтой (он влюблен в паруса), и — пожалуйста — срочный вызов.
Аксель помолчал, удовлетворенный ходом беседы.
И вдруг:
— Март, что это было такое?
Я ждал этого вопроса, едва увидел учителя, но не думал, что он прозвучит так прямо.
Беспомощно взглянул на профессора — ведь он-то должен уже все знать, но лицо его выражало каменное спокойствие, а глаза смотрели твердо и беспощадно, приказывая говорить. И тогда я стал говорить, как все было, начиная с того момента, когда в ангаре нам мешал болтливый комментатор. Я очень хотел, чтоб учитель почувствовал азарт гонок и не думал, что я улыбался от самодовольства или какой-то иной глупости. И он, кажется, все понял, хотя я, конечно, ни слова не сказал про Каричку и свое настроение. Его огромные руки, спокойно лежавшие на коленях, напряглись, словно он пытался представить, как я удерживал руль моей машины. А я сказал, что он ни за что бы не удержал (Старик обладал огромной, непонятно-чудовищной силой). И еще прибавил что-то невразумительное про сильное поле притяжения, которым обладает облако.
— Так, юноша, — сказал Аксель, — весьма поэтично, но анализ никуда не годится. Ты ведь учишься на физическом?
— На физико-математическом.
— Жаль, что не мне сдаешь экзамен. Но шутки в сторону. Как ты сказал: облако?
— Это я случайно. Облако я не видел, видел только сияние.
— Пожалуй, ты угадал.
— А Сингаевский?
— Да-а, — только и сказал профессор.
Он молчал довольно долго. Потом смущенно заморгал.