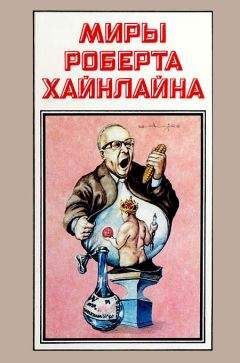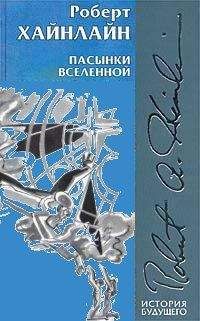Пока Стивенс выполнял просьбу, Граймс выбрался из старомодного, чужеземного покроя защитного плаща и бросил его более-менее в направлении платяного шкафа. Плащ тяжело шлепнулся на пол, гораздо тяжелее, чем можно было предположить, несмотря на внушительные размеры.
Наклонившись, Граймс стянул с себя толстые защитные штаны, не менее массивные, чем плащ. Под ними оказалось обычное рабочее трико в черную и голубую полоску. Этот стиль был ему не очень к лицу. В глазах человека, неискушенного в вопросах общепринятой одежды, — скажем, прилетевшего с Антареса, — Граймс выглядел бы неуклюжим, даже уродливым. Он сильно смахивал на пожилого жирного жука.
Джеймс Стивенс на трико внимания не обратил, но с неодобрением взглянул на брошенную на пол одежду.
— Все таскаешь этот дурацкий панцирь, — заметил он.
— Конечно.
— Черт побери, док, ты испортишь себе здоровье. Это просто вредно.
— Без него будет еще хуже.
— Вздор! Я совершенно здоров, хоть и не ношу панциря за пределами лаборатории.
— А надо бы, — Граймс приблизился к сидевшему в кресле Стивенсу. — Положи ногу на ногу.
Стивенс повиновался. Граймс резко ударил ребром ладони пониже коленной чашечки. Рефлекторный рывок был едва заметен.
— Плохо дело, — сказал Граймс после того, как оттянул правое веко своего друга. — Ты в никудышной форме.
Стивенс поспешил переменить тему:
— Со мной все в порядке. Давай поговорим о тебе.
— А что со мной?
— Понимаешь… Черт побери, док, ты портишь себе репутацию. О тебе уже поговаривают.
Граймс кивнул.
— Я знаю. «Бедный старик Гас Граймс. У него жучки в банке завелись». Не беспокойся о моей репутации. Я всегда шагал не в ногу. Какой у тебя индекс усталости?
— Не знаю. Да все в порядке.
— Неужели? Давай потягаемся. Я прижму твою ладонь два раза из трех.
Стивенс потер глаза.
— Не подкалывай меня, док. Я устал, знаю, но это только переутомление.
— Гм… Джеймс, ты, может быть, неплохой ядерный физик…
— Инженер.
— …Инженер. Но в медицине ничего не понимаешь. Нельзя год за годом облучать человеческий организм всеми видами радиации и ожидать, что не будет никаких последствий. Человек к этому не приспособлен.
— Но в лаборатории я ношу панцирь. Ты же знаешь.
— Знаю. А вне лаборатории?
— Но… Послушай, док, мне неприятно это говорить, но все твои предпосылки никуда не годятся. Конечно, в наши дни уровень радиации изрядно повысился, но в целом ничего опасного нет. Все специалисты по коллоидной химии согласны…
— Что за вздор?!
— Но ты же должен признать, что биологическими системами занимается коллоидная химия.
— Я никому ничего не должен. Это не я, а они утверждают, что коллоиды служат основой для живой ткани. Но я уже сорок лет пытаюсь всем втолковать, что нельзя безнаказанно подвергать живую ткань жесткому излучению. С точки зрения эволюционной теории, человеческий организм привыкает и приспосабливается только к естественному солнечному излучению, и даже его он плохо переносит, несмотря на плотный ионный слой. А без этого слоя… Ты когда-нибудь слышал о лучевой болезни типа X?
— Конечно, нет.
— Ну да, ты слишком молод для этого. А вот я видел. Еще студентом присутствовал при вскрытии одного такого больного. Парень вернулся из экспедиции на Венеру. Мы насчитали на нем четыреста тридцать восемь опухолей и сбились со счета.
— Тип X теперь научились лечить.
— Конечно. Но это было предупреждение. Вы, молодые гении, способны в своих лабораториях создавать такие вещи, с которыми мы, медики, не можем сразу справиться. Мы постоянно отстаем, мы обречены на отставание и обычно узнаем о случившемся, когда поправить уже ничего нельзя. Вы недосягаемы.
Он грузно сел и внезапно показался таким же усталым и изможденным, как и его младший друг.
Стивенс испытывал то смущение, какое обычно чувствуют, когда лучший друг влюбляется в совершенно недостойную его девицу. Он пытался найти слова, которые не были бы неуместными, но не смог и переменил тему разговора.
— Док, я пришел сюда по двум причинам.
— По каким же?
— Во-первых, отпуск. Я очень устал, слишком много работал, поэтому отпуск мне необходим. А вторая причина заключается в твоем питомце, Уолдо.
— Уолдо?
— Да, Уолдо Фартингвэйт-Джонс, да помилует Господь его упрямое злопамятное сердце.
— Но почему Уолдо? У тебя что, неожиданно прорезался интерес к myasthenia gravis[14]?
— Нет, меня не интересуют его болезни. У него может быть сыпь, перхоть, недержание мочи, мне все равно. Я даже буду рад. То, в чем я нуждаюсь, — это его мозги.
— И что же?
— Мне нужна помощь. Уолдо не помогает людям, он их использует. Ты единственный, с кем у него нормальные отношения.
— Это не совсем так…
— А у кого еще?
— Ты меня неправильно понял. Он ни с кем не поддерживает нормальных отношений. Я единственный, кто осмеливается грубить ему.
— Но я думал… Впрочем, неважно. Мы оказались в неловком положении. Уолдо — тот человек, в котором мы сильно нуждаемся. Почему так выходит, что гении его масштаба всегда недоступны, всегда глухи к ничуть не обременительным просьбам общества? Я знаю, ты скажешь, что во всем виновата болезнь, но почему такой человек должен был заболеть именно ею? Это невероятное совпадение.
— Он такой не потому, что болен, — ответил Граймс. — Вернее, ты неправильно ставишь вопрос. В каком-то смысле, его гениальность проистекает как раз из болезни.
— То есть?
— Ну… — Граймс погрузился в размышления, стараясь внутренним взором охватить долгую — в длину жизни Уолдо — связь со своим странным пациентом.
Он вспомнил собственные смутные предчувствия в тот момент, когда принимал роды. Ребенок родился вполне здоровым, если не считать легкой голубизны кожи. Но в то время рождалось много синюшных детей. Тем не менее он тогда почувствовал нежелание шлепнуть ребенка по попке, чтобы заставить того сделать первый вздох.
Однако Граймс подавил свои страхи, выполнил необходимую процедуру наложения рук, и новорожденный заявил о своей независимости истошным воплем. Граймс не мог поступить иначе. Он был тогда молодым врачом и всерьез относился к клятве Гиппократа. Он и сейчас относился к ней всерьез, правда, иной раз называл ее клятвой плутократа. Однако предчувствия его не обманули. В этом ребенке было что-то не то, что-то такое, чего нельзя было отнести на счет myasthenia gravis.
Сначала он чувствовал жалость, к которой примешивалось необъяснимое чувство ответственности за состояние младенца. Патологическая дистрофия практически парализует человека, так как у него не остается непораженных органов, на которые можно было бы опереться. Жертва вынуждена лежать, все ее органы, все конечности дееспособны, но в столь малой степени, что не могут функционировать нормально. Больной проводит жизнь в состоянии крайнего истощения, какое у здорового человека возникает после изнурительного пробега по пересеченной местности. Ему нельзя помочь, нельзя облегчить его страданий.