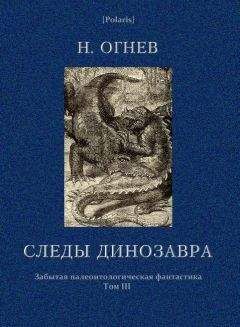Дьявол, как и полагается, более грешен. Но разве он видит умирающих от болезни, которую сам же и наслал, распылив с борта флаера капельную взвесь? И какое ему дело до оголтелых дур, радостно отдавшихся ему и осуждаемых на костер впоследствии. Разве он принуждал их? Компромиссы с совестью возможны.
Куда хуже светскому властителю. Мишурный блеск короны… и грязная работа. Иногда Барини завидовал мусорщикам и золотарям.
Палач был глухонемым. Огромнейший детина невероятной телесной силы, весь покрытый курчавым волосом, как лесной зверь, нашел верный кус хлеба еще у маркграфа, а после него достался по наследству князю. Садистом он не был, но работу свою любил. Ему больше нечего было любить, а без любви человеку трудно живется на свете. Когда допрашивали обвиняемого, знавшего опасные тайны, этот палач был незаменим. Тогда из сводчатого подвала удаляли лишних свидетелей, а глухонемой мастер пыточных дел обходился без подручных – сам раздувал мехом угли в жаровне, сам готовил инструменты, сам подвешивал жертву, сам же и следил, чтобы она не скончалась раньше времени.
Только что Барини жестом приказал выйти вон как палаческим подручным, так и писцу. Еще раньше тюремный конвой уволок впавшего в беспамятство бывшего гвардейского лейтенанта, схваченного при попытке ускользнуть из города ночью, спустившись по веревке со стены. Поначалу глупец начисто отрицал шпионаж, признавая лишь попытку дезертировать, но на дыбе выложил все. Негодяй был куплен людьми из секретной канцелярии герцога Марайского еще до войны. Барини с трудом сдерживал бешенство – лейтенант не принадлежал к унганской аристократии, он был из новых офицеров, вознесенных из грязи за способности. Способности-то имелись, а вот благородства, да и благодарности выдвиженец, как видно, был лишен в принципе. Собственно, кто бы сомневался в том, что Гухар имеет в городе своих людей. Но гвардейский офицер?! Но продавшийся задолго до неблагоприятного поворота в войне и даже до самой войны?! Он продался, как только нашелся покупатель, и судьба бывшего лейтенанта определилась с предельной отчетливостью: висеть ему завтра на рыночной площади, несмотря на возможное недовольство гвардии. Иуде – иудово. А что? С пойманными унганскими шпионами Империя расправлялась куда круче.
По бессвязным выкрикам пытаемого, перемежаемым диким воем, выходило, что Гухар Пятый знал, что первой целью Барини станет Марайское герцогство, – почти наверняка он знал это уже во время якобы случайной встречи на охоте в Спорных землях. И что сделал? Не подал виду – это первое. Второе: пытался договориться о нейтралитете в будущей войне. Прямо говорил о возможности тесного союза в дальнейшем. Если усыплял бдительность, то это у него нисколько не получилось.
Черта с два! Гухар вел тонкую и рискованную игру. Что бы он ни болтал на исторической встрече в Спорных землях, его слова не имели значения. Сложившееся у Барини впечатление – иное дело. Впечатление было такое: Гухар вполне может стать лояльным вассалом, стоит лишь надавить на него хорошенько да поколотить раз-другой имперские войска. У марайского герцога не было выбора: вступи он в войну на стороне императора – и по его герцогству, соседствующему с Унганом, пройдет такой каток, что земля превратится в пустыню, и сохранит ли герцог хотя бы тень власти и влияния? Вот уж вряд ли. Империя требовала от Гухара пожертвовать собой, своим родом и своими владениями. Очень надо! Куда предпочтительнее покориться «проклятому еретику», играть до поры до времени в лояльность новому господину, сохранить родовые владения более или менее неразоренными, а затем продаться тому, кто больше даст и на чьей стороне удача. Первое почти всегда совпадает со вторым.
Любопытно, что Гухар и сейчас держится особняком, да еще перетянул на свою сторону кое-какую юдонскую знать. Что бы это значило: Гухар отныне считает себя лишь союзником императора, а не вассалом? Если так, то он наивен – Марайское герцогство не Унган. Чуть только кончится война, герцога быстро научат уму-разуму…
Додумать эту мысль не удалось – тюремщики ввели горца со связанными за спиной руками. Ввели – и исчезли по мановению княжеского мизинца. Барини сделал знак палачу – обожди, мол, – и долго смотрел на того, чья ближайшая перспектива – пытки, а чуть более отдаленная – казнь.
Горец держался независимо, нагло отставив ногу. Когда ему надоело ждать, он спросил, осклабившись:
– Узнаешь меня?
Еще бы унганский князь не узнал одного из тех, кто берег когда-то его шкуру в уличных стычках, – одного из «преторианцев», навязанных ему Морисом двадцать два года назад. И не зря – без горцев Барини пришлось бы поначалу куда труднее. Впоследствии они ушли по одному в свои горы, не вынеся размеренной скуки гвардейской службы; ушел даже тот, кого Барини сделал капралом. Но все ушли без претензий, унося в кошелях достаточно золотых и платиновых монет, чтобы купить прилепившийся к скале домик, хорошего коня, стадо голов в пятьдесят, двух-трех рабов и столько жен, сколько надо для присмотра за хозяйством.
И вот один из них вернулся…
– Тебя зовут Шассуга, – сказал Барини. – Ты служил под моим началом, когда я еще был лейтенантом. Я не спрашиваю, почему ты покинул службу. Я спрашиваю: зачем ты хотел убить меня?
– Просто захотел, – ответил горец и сплюнул на пол.
– Да? А мне кажется, что тебе заплатили. И я хочу узнать кто. Ответь, и тебе не придется мучиться.
– Убьешь? – спросил Шассуга, налегая, как все горцы, на шипящий звук.
– Разве ты не убил бы того, кто пытался убить тебя? – возразил Барини. – Не тяни время – палач уже заждался. Итак, кто заплатил тебе?
Вместо ответа Шассуга плюнул уже прицельно и не попал – дистанция была великовата.
Барини вздохнул.
– Ты отнимаешь у меня время. Может быть, ты воображаешь, что имеешь право на особое отношение из-за того, что когда-то мы с тобой бок о бок рубились в тавернах с такими же пьяными придурками, какими были и сами? Те времена прошли. Но ты прав. Во имя прошлого я окажу тебе милость. Вот яд. – Барини достал из-за пазухи пузырек темного стекла на шнурке. – Настойка корня упокой-травы убивает быстро и безболезненно. Я держу его для себя на крайний случай, но поделюсь с тобой, если ты скажешь мне: кто?
– Развяжи мне руки, – потребовал Шассуга.
– Да? А зачем?
– Развяжешь, тогда поговорим.
Барини даже залюбовался. Горец есть горец – храбрый со слабым, наглый с сильным. Наверное, это условие выживания в его диком мире, но здесь оно не пройдет, ох, не пройдет…
– У меня иное предложение: я подвешу тебя, тогда поговорим, – сказал Барини. – Ты будешь рад рассказать мне все, что знаешь. Устраивает?