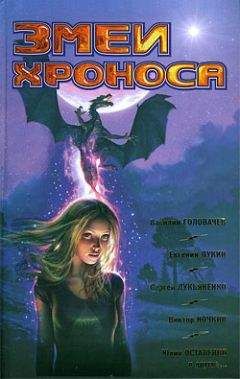Молчание.
– Да, – сказал я наконец. – Могла. Только...
Сказать ей, о чем я все это время думал? Скажу, наверно, но не сейчас. Когда все станет ясно мне самому.
– Только – что?
– Ну... Она ведь этого не сделала, верно? И нет никаких доказательств того, что она сделала это в другой ветви. Какие могут быть доказательства?
– Она может это помнить, – жестко сказала Анна Наумовна. – Ты же помнишь то, чего с тобой вроде не происходило. Дежа-вю. Ложная память. Вещий сон. Такие вещи особенно запоминаются.
Я пожал плечами.
– Бессмысленно ее об этом спрашивать. И в любом случае... Какое это имеет значение для полиции?
– Да, – сказала Анна Наумовна. – Ты прав. Никакого значения.
Она тихо заплакала, и я не знал, что сказать – я бы и сам, наверно, расплакался, если бы мог, ком стоял в горле, губы вдруг задрожали, и я с трудом взял себя в руки, но слез не было, слез у меня почему-то не было никогда, даже в детстве у меня не получалось поплакать, если мне становилось плохо, как в тот день, когда меня избил соседский мальчишка, с которым, кстати, впоследствии мы очень неплохо играли – у меня пошла носом кровь, сильно болела скула, и вообще было ужасное ощущение униженности и своей неспособности дать сдачи, множество было всяких неприятных эмоций, но слез не было совершенно, я только мычал и на мамины расспросы бормотал что-то невразумительное. Давать сдачи, кстати, я так и не выучился, так уж сложилось, для мальчишки это, конечно, странно, мне кажется, какую-то роль сыграла моя дружба с Аликом: это, конечно, совершенно ненаучное объяснение, и любой физик меня высмеет, но, начиная с определенных пор, мне представлялось, что, выбирая для себя реальность, Алик и меня к ней притягивал, мы были, как единый человеческий организм, симбиоз – не полный, конечно, людьми мы были очень разными и физически, и во многих других отношениях, но судьбы наши в какой-то момент привязались друг к другу, причем право выбора оставалось за Аликом, а я следовал за ним по жизни, будто пес за хозяином.
Я так и сидел напротив Анны Наумовны, пока она не вытерла глаза уголком платочка и не спросила будничным своим голосом:
– Налить тебе еще чаю, Мотя?
– Спасибо, – сказал я.
– Ну ее, эту Ингу, – сказала Анна Наумовна, наливая в мою чашку горячей воды и опуская новый пакетик. На этот раз я все-таки встал и достал из кухонного шкафчика сахарницу.
– Ну ее, – повторила Анна Наумовна. – По-моему, это не тот человек, который... Кто там у тебя еще в списке? Миша Бреннер?
– Вы знаете, что они с Аликом?..
– Конечно, – сказала Анна Наумовна. – Алик мне рассказывал. Ты думаешь, Миша был настолько... что мог...
– Нет, – признал я. – Собственно, сейчас я почти уверен, что нет.
– Тогда кто?
– В том-то и дело, – медленно произнес я, – что есть одно обстоятельство, которое... Полиции-то это все равно, эксперты на это внимания не обратили... и не могли обратить... А я... Мы... Странно, что не подумали раньше. Или... Может, вы все-таки об этом подумали, Анна Наумовна? Вам не показалось странным в... ну, в том, что было...
– Не понимаю, – прошептала Анна Наумовна. – Что ты хочешь сказать, Мотя? Странным... Это ужасно, это... Господи, я ничего не понимаю! Ничего! Ничего!
Ну, все. Теперь договорить не удастся точно – нервное напряжение перешло обозначенную природой границу, и если сейчас Анну Наумовну не успокоить – не знаю как, таблетку, что ли, какую-нибудь дать выпить, – то...
Я вышел в гостиную и застал Иру в той же позе, в какой оставил полчаса – или сколько там времени прошло? – назад: она сидела на диване, обхватив плечи руками, может, плакала все это время – не знаю.
– Ира, – сказал я, – у тебя есть что-нибудь успокоительное? Анна Наумовна...
– Да, – сказала Ира и поднялась. – Сейчас.
Она прошла на кухню и закрыла за собой дверь.
Я подошел к двери детской и прислушался. Было тихо. Я совершенно не представлял, чем мог заниматься в своей комнате десятилетний мальчишка сутки спустя после смерти отца. Плакал? Тупо смотрел перед собой? Играл на компьютере? Слушал музыку в наушниках, чтобы никто не подумал, что ему все безразлично? Может, делал уроки, что уж совсем маловероятно?
Я постучал. Постучал громче. Повернул ручку, приоткрыл дверь и заглянул. Игоря в комнате не было.
Я распахнул дверь и вошел. Постель раскидана – Игорь терпеть не мог застилать постель, обычно это делала Анна Наумовна, когда внук уходил в школу. Компьютер был включен, мигала желтая лампочка: жесткий диск перемалывал какую-то информацию, но экран монитора был темным, и по нему, переваливаясь, ползала надпись на иврите «Мордим» – это было название известной поп-группы, которое Игорь еще в прошлом году сделал заставкой для скринсервера. Значит, минимум десять минут никто к клавишам не прикасался.
Окно было открыто, вечерний ветерок слабо шевелил висевшие на книжном шкафу колокольчики, они даже не звенели.
Движение почудилось мне слева, и я резко повернулся.
– Фу! – сказал я. – Как ты меня напугал...
Игорь стоял, вжавшись в стену, будто его прилепили к ней очень цепким клеем. Смотрел он в мою сторону, а видел... Что-то он, конечно, видел, но вряд ли меня, такой у него, во всяком случае, был взгляд. Отсутствующий? Пустой? Нет, какой-то...
Какой у меня самого был бы взгляд, если бы я думал об отце, которого на моих глазах...
– Игорь, – сказал я, – ты ел что-нибудь сегодня?
Мальчик отлепился от стены и пошел на меня с таким видом, будто собирался пройти насквозь. Может, решил, что я – призрак?
– Эй, – сказал я, – осторожнее, парень, ты что?
Подойдя ко мне почти вплотную, Игорь вытянул руки и уперся ладонями мне в грудь, будто хотел оттолкнуть. Потом руки его упали, я обнял мальчика и почувствовал, как мелко-мелко дрожат его плечи – он плакал? Я не мог понять, не видел, так мы и стояли какое-то время. Мне казалось – очень долго, хотя на самом деле прошло, наверно, не больше минуты.
– Так ты ел что-нибудь сегодня? – решительно спросил я, взял Игоря за плечи и повел к постели. Усадил на край кровати и сел перед ним на корточки. Я хотел видеть его глаза, но он отводил взгляд.
– Нет, – сказал он наконец. – Не могу. Тошнит.
– Этот полицейский, – сказал я. – Учитель. Он не очень к тебе приставал?
– Кто? – переспросил Игорь, он никак не мог вернуться из собственного мира, куда ушел, чтобы не видеть, не слышать происходившего.
– Учитель, – повторил я. – Это у него фамилия такая.
– А... – сказал Игорь. – Он мне тоже сказал. А я не понял. Подумал: учитель, из школы. Подумал: зачем он врет, ведь он из миштары[1]...
Игорю, приехавшему в Израиль в трехлетнем возрасте, было легче говорить на иврите, как в школе, как с друзьями, но дома с ним говорили только по-русски, Алик пытался запрещать сыну вставлять в свою речь ивритские слова, наказывал, бывало: нельзя, чтобы ребенок совсем забыл язык; Игорь и не забывал, но заставить его обходиться дома без иврита никто из домашних так и не смог.