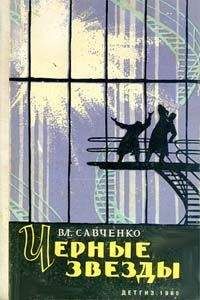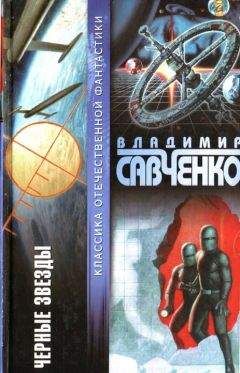Голуб стоял за кафедрой, раскинув руки на ее бортах; лысина отсвечивала в свете люстр. Он читал лежавший перед ним конспект, изредка исподлобья посматривал в зал, изредка поворачивался к доске и писал цифры.
— Таким образом, можно выделить самое существенное, — говорил Иван Гаврилович звучным, густым голосом опытного лектора. — Отрицательные мезоны очень легко проникают в ядро. Это первое. Второе: соединяясь с ядром, минус-мезон понижает его заряд на одну единицу, то есть превращает один из протонов ядра в нейтрон. Поэтому после облучения мезонами мы находим в образцах серы атомы фосфора и кремния, никель превращается в кобальт, а кобальт — в железо, и так далее. Мы наблюдали несколько превращений в газообразном и сжиженном водороде, когда ядра водорода превращались в нейтроны. Эти искусственно полученные нейтроны вели себя так же, как и естественные, и распадались снова на электрон и протон через несколько минут. Вот количественные результаты этих опытов. — Иван Гаврилович кивнул служителю, сидевшему возле большой проекционной установки — эпидиаскопа, и сказал ему: — Прошу вас.
В зале погас свет, а на экране, что позади президиума, одна за другой появлялись формулы ядерных реакций, кривые радиоактивного распада, схемы опытов. Когда служитель извлек из эпидиаскопа шестую картинку, Иван Гаврилович снова кивнул ему. “Достаточно, благодарю вас…” Экран погас, в зале загорелся свет, осветив внимательные, сосредоточенные лица.
— Для более тяжелых, чем водород, веществ, — продолжал Голуб, — мезонные превращения также оказались неустойчивы: атомы железа снова превращались в атомы кобальта; атомы кремния, выбрасывая электрон, превращались в фосфор, и так далее. Однако… — здесь Голуб поднял вверх руку, — в некоторых случаях мы получали устойчивые превращения. Так, иногда при облучении железа мы получали устойчивые атомы марганца, хрома, ванадия и даже титана. Это значит, что, например, в титане число нейтронов ядра увеличилось на четыре против обычного. Эти результаты, пока еще немногочисленные, являются не чем иным, как намеками на большое и великолепное явление, которое, возможно, уже осуществлено природой, а может быть, первым его осуществит человек. В самом деле, что может получиться, если мы будем последовательно осуществлять устойчивые мезонные превращения ядер? Постепенно все протоны ядра будут превращаться в нейтроны. Обеззаряженные ядра не смогут удерживать электроны; они сомкнутся и под действием огромных ядерных сил образуют ядерный монолит — сверхвысокой плотности и непостижимых свойств, лежащих за масштабами наших представлений…
В зале возник шум. Яшка толкал меня в бок локтем и шептал:
— Колоссально, а? Колька, понимаешь, какая сила?! Колоссально! А мы с тобой читали и ничего не поняли…
— Давайте рассмотрим другую сторону вопроса, — продолжал Иван Гаврилович. — Мы имеем ядерную энергию — огромную, я бы сказал, космическую энергию. А достойных ее, равных ей материалов нет. Действительно, ведь все обычные способы получения энергии заключаются в том, что мы каким-то образом воздействуем лишь на внешние электроны атомов. Магнитное поле перемещает электроны в проводнике — это электрическая энергия. Валентные электроны атомов углерода взаимодействуют с валентными электронами кислорода — это дает тепловую энергию. Переход внешних электронов с одной орбиты на другую дает световую энергию, и так далее. Это так сказать, поверхностное, не затрагивающее ядра использование атома дает небольшие температуры, небольшие излучения. И они вполне соответствуют нашим обычным земным материалам, их механической, тепловой, химической, электрической прочности.
Но ядерная энергия — явление иного порядка: она возникает благодаря изменению состояний не электронов атома, а частиц самого ядра — протонов и нейтронов, — которые, как всем известно, связаны в миллионы раз более прочными силами. Потому-то она создает температуру в миллионы градусов и радиацию, проникающую через стены из бетона в несколько метров толщиной. И обычное вещество слишком непрочно, слишком ажурно, чтобы противостоять ей…
Говорят о “веке атома”, но ведь это неправильно! Наше время можно назвать только временем применения ядерной энергии, причем применения очень несовершенного. Возьмите откровенно варварское “применение” ее в виде ядерных бомб. Возьмите примитивное в своей сложности использование делящегося урана и плутония в реакторах первых атомных электростанций. Ведь это смешно.
При температуре в несколько сот градусов используют энергию, заставляющую пылать звезды… Но мы не можем добиться ничего большего с нашими обычными материалами. Таким образом, будущее ядерной техники — и, должно быть, самое недалекое — зависит от того, будет ли найден материал, который мог бы полностью противостоять энергии ядерных сил и частиц. Очевидно, что такой материал не может состоять из обычных атомов, скрепленных внешними электронами. Он должен состоять из частиц ядра и скрепляться могучими ядерными силами. То есть, это должен быть ядерный материал. Таково философское решение вопроса. Те опыты, о которых я докладывал, показывают, что возможно получить такой материал, состоящий из лишенных зарядов ядер, лабораторным способом. Свойства этого нового материала — назовем его для определенности нейтридом — каждый без труда сможет представить: необычайно большая плотность, огромная прочность и инертность, устойчивость против всех и всяческих механических и физических воздействий…
Голуб замолчал, как будто запнулся, снял очки, внимательно посмотрел в зал:
— Мы еще многого не знаем, но ведь на то мы и исследователи, чтобы пробиваться сквозь неизвестное. Лучше пробиваться с целью, чем без цели. Лучше пробиваться с верой в то, что цель будет достигнута. И я верю — нейтрид может быть получен, нейтрид должен быть получен!
Он собрал листки конспекта и сошел с кафедры.
Интересно: у него горели щеки — совсем как у нас с Яшкой, как у всех, сидевших в конференц-зале.
Ну, тут началось! В зале все стали спорить друг с другом яростно, громко. К Ивану Гавриловичу посыпались вопросы. Он едва успевал отвечать. Яшка бормотал возле меня: “Вот это да! Колоссально!” — потом сцепился в споре с каким-то сидевшим рядом рыжим скептиком. Бедный Тураев растерялся, не зная, как успокоить зал: его председательского колокольчика не было слышно; потом махнул рукой и стал о чем-то с необыкновенной для старика живостью рассуждать с Голубом.
Было уже одиннадцать часов ночи. Когда все немного утихли, Тураев встал и сказал своим тенорком:
— Сведения и идеи, сообщенные нам… э-э… профессором Голубом, интересны и важны. Обсуждение их, мне кажется, должно проходить менее… э-э… страстно и более обстоятельно. Научное обсуждение не должно походить на митинг. Научные мнения не должны быть опрометчивыми… — Он в раздумье пожевал губами. — Пожалуй, мы сделаем вот что: размножим сегодняшний отчет Ивана Гавриловича и распространим его с тем, чтобы присутствующие здесь… э-э… уважаемые коллеги смогли его обсудить в течение ближайших дней… А сейчас заседание совета… э-э… закрывается.