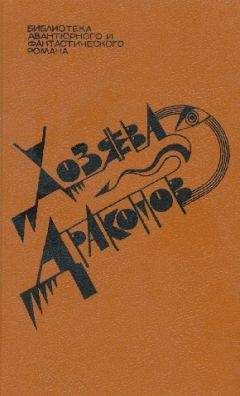Распоряжения эти, как и манера хозяина отдавать их, страдали некоторым единообразием. Чаще всего неожиданно раздавался грубый рев, смешанный с проклятиями и воплями, из которых Бернард мог разобрать только, что у хозяина опять чего-то не получается. Потом с треском распахивалась дверь и вылетала пустая бутылка из-под маисовой. Чуть погодя появлялась лысая голова Джека, приказывающего «паршивому и ленивому ублюдку» принести еще одну, но не порожнюю.
Бернард был весьма самолюбивым и вспыльчивым подростком, но он молчаливо терпел все. Почему? Да потому, что, обладая недюжинной природной технической смекалкой, понял — потерпеть стоит. Он уже не раз проникал в запретную часть мастерской, когда Джек в пьяном беспамятстве валялся на полу, и прекрасно разобрался, над чем так настойчиво работает этот полуспившийся самородок.
В те далекие времена весь богатый нефтью Техас мечтал только об одном — об инструменте, способном проходить через твердые скальные породы, как сквозь масло… И Джек как раз и изобретал мелкозубчатую коронку для бура, сулившую революцию в нефтедобывающей промышленности.
И Бернард терпел, терпел и ждал. Ждал, снося грубость, все оскорбления, придирки и даже нередко и зуботычины. А дожидался он только одного — того дня, когда этот чертов пьяница Джек закончит свою работу.
В томительных ожиданиях прошел еще год. И вот однажды холодным осенним вечером Джек вышел из своей мастерской. Да, да, на этот раз он именно вышел, а не вылетел, как обычно, изрыгая в порыве гнева проклятия. Мало того, бутылку обожаемой маисовой, почти полную, он нес в руке вместо того, чтобы вышвырнуть ее за дверь пустой.
— Мальчик мой, — тихо сказал Джек, и Бернард тут же насторожился, потому что впервые за прошедшие полтора года хозяин назвал его «мальчиком», а не «ублюдком», «паршивым койотом», «вонючим лодырем» или «недоношенным проходимцем».
— Мальчик мой, — повторил он. — Ты можешь идти домой. И не приходи завтра. Если хочешь, поиграй с приятелями, отдохни. Мы заслужили отдых, мой мальчик. Завтра я уеду и вернусь только через несколько дней. Что будем делать дальше — там посмотрим. Сейчас же, мой дорогой, принеси мне, пожалуй, еще бутылочку маисовой и ступай…
Маисовую в этот раз Бернард нашел довольно быстро. Правда, потом пришлось сделать небольшой крюк, чтобы забежать за стрихнином, давно припасенным в укромном месте. Джек даже не обратил внимания на задержку подмастерья. К его возвращению он был уже изрядно пьян. Отдав маисовую, Бернард попрощался и, уходя, окинул взглядом ведерную бутыль керосина, которую давно заприметил в углу.
…Вдоль старого, покосившегося забора мелькнул еле уловимый человеческий силуэт. Тяжелые плотные тучи надежно закрывали луну, и на земле ничего не было видно даже в двух шагах. И в светлую-то ночь мало бы кто отважился проходить мимо разваливающейся хибарки ворчливого Джека, стоящей на отшибе, а уж в такую-то погоду к ней никто бы не приблизился ни за какие деньги. Человек, проскользнув к хибаре, боязливо оглянулся по сторонам, тихо прокрался к двери и склонился над замком.
Конечно, пьяный Джек вряд ли закрыл засов изнутри, но если и сделал это, беда невелика — несколько раз мазнуть обмокнутой в клейстер кистью по окну, приложить к нему заранее подготовленную газету и затем аккуратно выдавить стекло. Все было продумано Бернардом с учетом опыта не один раз виденных им гангстерских фильмов. Но ничего подобного делать ему не пришлось. Дверь спокойно подалась. В жизни оказывается все гораздо проще, чем в кино.
Джек валялся на полу посередине мастерской. По позе было ясно, что он из последних сил пытался доползти до стола, на котором лежало единственное его сокровище — изобретенная им коронка для бура.
…Пожар заметили не сразу, и пока полусонные соседи добежали до хибары Джека, тушить было уже нечего. От нее остались одни головешки. А на следующее утро обгоревший труп опустили в наспех вырытую могилу, старик пастор пробурчал себе под нос что-то невнятное, так как все равно никто толком не знал, какого Джек был вероисповедания, и хьюстонцы потянулись со своими кофемолками и кольтами к другим мастерам. Смерть чужака, по пьянке спалившего свою лачугу и погибшего при пожаре, не была для них событием, заслуживающим большого внимания.
Джонатан Кэрби, по прозвищу «грэйвдиггер», был пьян. И не просто пьян, а пьян невероятно, мучительно. Последнюю неделю он занимался тем, что усиленно оправдывал свою кличку и теперь, как сказали бы на полстолетия позже, «снимал стресс», или, как выражались в те патриархальные времена, пытался «залить совесть».
В Хьюстоне брезгливо поговаривали, что молодому тридцатилетнему владельцу юридической конторы как-то не пристало самому марать руки о черномазых. Во всяком случае, настолько, чтобы заслужить кличку «грэйвдиггер» — «гробокопатель», или для друзей попросту Джон Дигги. Так, по крайней мере, считали дамы. Их мужья, правда, подобной брезгливости не разделяли и на каждом заседании ложи клана восторженным ревом приветствовали Джона Дигги, когда тот зажигал ритуальный крест. И Джон усердно оправдывал доверие друзей.
Но на этот раз он и сам понимал, что несколько переусердствовал. Три линчевания и три приличных негритянских погрома за одну неделю — это, что ни говори, утомительно. Так и бизнес может прийти в упадок, если столько времени тратить на стороне. В ложе начали ворчать. Пришлось всех временно распустить.
«Так с чего же у нас на прошлой неделе началось? — вспомнил Джон Дигги. — Ах да, тот грязный ниггер целых два раза подряд не сказал Уолту Монтгомери „сэр“. А какое, интересно, ты право имеешь, черномазый, не говорить белому человеку „сэр“? Эдак ты еще подумаешь, что и сам не хуже белого. Ну а раз не хуже, значит, ты ему почти что ровня. А коли ты ему ровня, то так ты еще и за белыми женщинами ухлестывать начнешь! Бить их, бить черномазых, чтоб им даже думать неповадно было!..»
Он припомнил, как «белые рыцари» маршем вышли в сторону негритянских кварталов, неся зажженный крест и распевая: «Берегись, ниггер, к тебе идет „грэйвдиггер“. Очень уж была по душе Джону эта песня.
«Да, а второго черномазого линчевали еще по более веской причине, — опять принялся рассуждать Джон Дигги. — Он ведь, мерзавец, совсем обнаглел. Это же надо заявить, да еще во всеуслышанье, что господь наш Иисус Христос кровь свою пролил за всех грешных, то есть как за белых, так и за черных. Оно, конечно, если тщательно разобраться, то господь-то наш тоже личность сомнительная, и эти римские легионеры поступили правильно, что пустили кровь ему самому. Но какое ты имеешь право, черная твоя морда, о таких вещах рассуждать? Вот и проливай свою собственную кровь на кресте, раз ты так о грешниках печешься. Вот именно — печешься, правильное слово, здорово мы его тогда вместе с крестом подпекли.