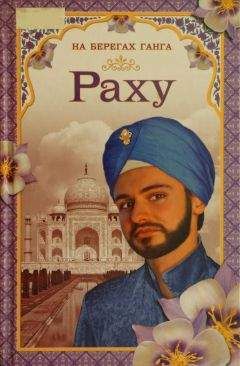Хон разглядывал древнюю постройку, вздыхал завистливо (вот бы с Торком и Рушем сговориться да свои хижины таким же огородить… а только ж это никакой жизни не хватит… ), как вдруг вскинулся со своего валуна, захлопал глазами в полнейшем недоумении — настолько нелепым показалось ему увиденное.
Вдоль частокола медленно и понуро брел голый человек. То есть, конечно, не вовсе голый, бедра его были обернуты куском выделанной шкуры (ведь даже вконец отрухлявевшему разумом не придет в голову такое бесстыдство, чтобы при живом солнце оголять срамные места, ежели нету на то единственно простительной и понятной каждому надобности). Но кроме этой самой набедренной шкуры не было на нем ничего — только собственная его шкура, посинелая и пупырчатая от холода. Посинеешь тут… Солнышко-то пригревает, да только это ежели одет как следует по погоде, а голому под таким солнышком недолго и околеть…
Хон заинтересованно разглядывал несуразную фигуру. Мужик. В летах уже; можно даже и так сказать: пожилой. Горбится, обнимает трясущимися руками дрожащие плечи, еле переступает босыми, по колено облепленными грязью ногами… Да что ж это такое творится на свете?!
Между тем голый остановился, задрал лицо к тесаным остриям высоченных бревен, закричал хрипло, со слезой:
— Старший брат! Старший брат Фасо!.. — Он надолго мучительно закашлялся, передохнул, закричал снова: — Фасо, Фасо! Будь милостив, снизойди к моему ничтожеству, прости!
Он выкрикивал это снова и снова, надсаживался, захлебывался сдавленным кашлем, вытирал ладонями мокрые от слез щеки и снова кричал… Наконец из-за частокола отозвался равнодушный, будто бы сонный голос:
— Ну, почему орешь? Одумался, что ли?
— Пожалей, Фасо! Бездонной клясться готов: не брал, не брал! — Голый истово заколотил себя кулаками в гулкую грудь. — Рассуди сам, мыслимо ли человеку столько съесть?
— Значит, прочее спрятал…
— Не брал я, не брал! — Голый снова застучал по груди. — Спусти мне жердину, позволь вернуться! Не позволишь — тебе же хуже. Лечить придется, снадобья редкостные на меня, недостойного, изводить. Пусти, не брал я!
За частоколом вроде как засомневались, переспросили раздумчиво:
— Так, говоришь, не брал?
— Да, да! Верно говорю, Мгла Бездонная знает: не брал!
— Не одумался, значит. — За частоколом зевнули со сладостным подвыванием. — Ну, броди, пока солнышко стареть не начнет.
Хон выждал немного, удостоверился, что на крики и плач голого больше никто не отзывается (а значит, ничего интересного больше не будет), и двинулся потихоньку своей дорогой. Ну их к бешеному, послушников этих, вечно все у них с придурью, не как у обычных людей…
Он увидел Гуфину землянку, когда солнце подбиралось уже к середине своего недолгого века. На замшелом столбике у входа висел посерелый от древности череп круглорога — значит, ведунья дома. Что ж, подождем. Захочет, так позовет, а ежели не позовет, значит, попусту пришел, с глупостью никому (и себе самому тоже) не надобной.
Долго ждать не потребовалось. Глуховатый голос, звучащий не то прямо над ухом, не то откуда-то из-под ног, произнес неодобрительно:
— Ну вот, пришел и стоит, сопит, мнется… Что ж ты мнешься, Хон? Ты уж заходи, раз пришел.
Позвали — надо идти. Несколько крутых ступеней вниз, тяжелая балка (не удариться бы головой в полумраке), а дальше — укрепленные лозовым плетением земляные стены, в непривычно большом очаге мечется низкое бездымное пламя, а возле очага — нахохленная, укутанная в истертый пятнистый мех фигура. Неподвижная, будто окаменелая. На вошедшего не смотрит, смотрит в огонь. Однако, прежде чем Хон успел шагнуть на застеленный пушистыми шкурами пол, Гуфа каркнула, не повернув головы:
— Меха с ног размотай да сполосни их. У входа миса с водой стоит — вот в ней… Я говорю, ноги сполосни, не меха, — уточнила она на всякий случай.
Выполнив требуемое с подобающим тщанием, Хон неторопливо приблизился к ведунье, нащупывая припасенное за пазухой подношение:
— Вот, решился тростинку выточить. Твоя-то ведь — так, палка простая, ни руки, ни глаза не радует, а эта… Глянь, какова! Ты уж прими, не побрезгуй.
Гуфа ехидно сморщилась:
— Ох и глупый же ты! Думаешь, чудодейственные тростинки руками делают? Думаешь, эта, твоя, годна для путного дела? Нет, Хон, ни для чего она не годится, разве только спину чесать.
Снова уткнулась взглядом в очаг ведунья, примолкла. Потом буркнула:
— Говори. Что за беда у тебя?
Хон рассказал — неторопливо, обстоятельно, со всевозможными подробностями и пояснениями. Гуфа и вздыхала, и кривилась, но не перебивала, слушала. Дослушав до конца, старуха тяжко поднялась на ноги, заходила по землянке, поглядывая на Хона жалостливо, будто на хворого.
— Ну почему же ты такой глупый, Хон? Или ты Незнающих никогда не видал? Так нет же, видал — и Тюска видал, и Лопа из Десяти Дворов. «Уже до пятилетнего умом дотянулся!» — передразнила она. — До пятилетнего — это они все быстро дотягиваются, а вот дальше куда как хуже идет. За десятилетнего твой Леф лишь годам к тридцати сойдет, да и того сам по себе не осилит. Хитрое это дело — Незнающих воспитывать, обычные люди того не могут. Ведун каждодневно навещать должен… или хоть кто из послушников, на худой конец…
Помрачневший Хон обиженно зыркнул на нее:
— Чего ж это к Лефу не ходил никто, если должен?
— Думаешь мне, ведунье, дела иного нет, кроме как тебе уменье свое навязывать? — фыркнула Гуфа. — Ты же не приглашал!
Хон скреб подбородок, пытаясь понять: чего это Гуфа ругает его за то, что он ее не позвал? Ведь никто не объяснил, что так нужно… Однако спорить, а тем более ссориться он не решился. Небезопасно это — ссориться с Гуфой.
А ведунья тем временем продолжала ворчать:
— Ты о чем же это возмечтал? Лучшая девка Долины, добытчица, собой хороша… Тебе бы добра ей пожелать. А ты что же, Хон? А ты ей несчастья хочешь. Да еще меня уговариваешь ведовство мое ей во вред обернуть. Думаешь, соглашусь я? Ты зря так думаешь, Хон!
Гуфа говорила, говорила, а сама между тем поставила в очаг небольшой железный котел (драгоценная старинная вещь), плеснула в него неестественно голубой воды (а может, и не вода это вовсе), бросила несколько душистых пучков пыльных высохших трав. Тут Хон сообразил, что именно она затевает, и на всякий случай отодвинулся подальше. Ведунья покосилась через плечо, ухмыльнулась:
— Оробел, воин? Не бойся. Я судьбу Ларды и Лефа узнавать буду. А ты замри пока, не мешай.
Варево в котле вдруг полыхнуло ледяной синевою, мертвенные блики заплясали по стенам, по низкой кровле, по странно исказившемуся Гуфиному лицу…