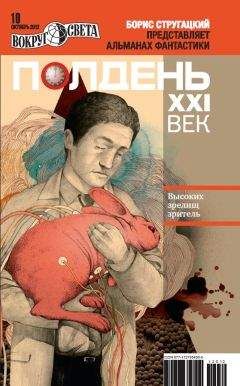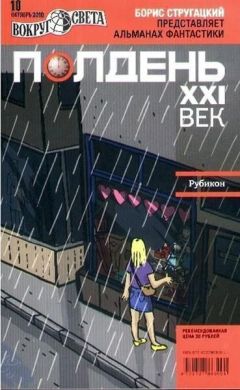Инка. Все время она на ум приходит. Особенно в последнее время. Она некрасивая, длинная и на шесть лет меня старше. Умная, конечно, но несчастливая. Может, потому что умная.
* * *
В той закрытой части, куда мне ходу нет, что-то странное делается. Инка стала совсем плохая. Я ее редко вижу, неохота мне, чтоб про меня с ней болтали, хоть все равно болтают, я слышал. Когда последний раз ее видел, с неделю назад, она что-то про новую тему проговорилась. Я было спросил, чего это, а она тут же на другое свернула. Значит, что-то секретное снова.
А я секреты не люблю. Тайны эти государственные. И тайн никаких у нас в лаборатории нет, разве что сколько молока в день у нас прокисает, в ЦРУ мечтают узнать. А у Инки тайны какие-то есть. И, видно, нехорошие тайны. Хотя разве тайны бывают хорошие? А про вирусы она здорово рассказывает. Они у нее как живые получаются, хотя, по ее словам, пока непонятно, живые они или нет. Вроде как кристаллы, а размножаются. Вот наш институт ими и занимается, потому как кристаллы. Я ведь кроме цинка и другие кристаллы выращиваю, хоть и не вирусы, а щелгалы, то есть щелочно-галлоидные кристаллы. Если кому интересно, кухонная соль тоже к ним относится.
Половина института открытая, все знают, кто чего делает, а вторая половина — закрыта наглухо. У дверки стоит парень, ну, может, чуть меня постарше, и дальше него только по пропуску, на котором то ли бабочка, то ли цветочек нарисован. Лаборанты все гадают, есть ли у него пистолет. Одни говорят: нет, не видно, а другие говорят, что он у него подмышкой, вот и не видно. Желающих пощекотать его подмышкой пока не нашлось, хоть я подбивал, но надежды пока не теряю.
И название у нас, если подумать, странное. Био-Крио-Медицина. Био — это понятно вроде, биология. Крио — криогеника, низкие температуры, потому я дьюары с жидким азотом и таскаю. И прок от криогеники точно есть. Теперь детишкам гланды научились не вырезать, а жидким азотом выжигать. Говорят, не так больно и быстрее. Надеюсь, на себе испытать никогда не придется. Если б еще зубы этим азотом научились лечить, я бы первым пошел. А вот медицина причем — непонятно. Врачей у нас я вроде вообще не видел. Хотя, может, не только гланды выжигают, а и еще чего похуже. Как-нибудь спрошу у Инки.
И вообще думать неохота. Это такое муторное дело, как я понял еще в школе. В тринадцать лет приходится думать об очень многом, и думать приходится самому. Спросить не у кого. Одноклассники или сами озабочены своими думами или неспособны думать вообще, учителя смотрят с плохо скрываемой иронией — «видели это много раз, созревание, пройдет», — а с родителями уж тем более не поговорить. Они заняты своими смешными проблемами — что на работе сказал А., и что ответил Б., и кому дали квартиру, и как наскрести на новую мебель.
Второй день подряд нет дождя, так что сегодня после работы — на «Динамо», в теннис погонять. Пора уже 1-й разряд выполнять. Жалко, темнеть рано начинает, но ничего, сбегу на полчаса пораньше, шеф добрый, ничего не скажет.
3. Стас. Женева. 1987 год, август
3.1. Я вышел из системы и задумался, стоит ли идти к замгендиректора. Он, конечно, соотечественник и состоит в той же парторганизации, что и я, правильные речи произносит на собраниях, но проку от него, боюсь, будет чуть. Но не зайти к нему тоже нельзя, получится, что я не выполнил указание Шефа, а он этого жуть как не любит.
Я подошел к внутреннему телефону в укромном углу читального зала и набрал четырехзначный номер. На том конце тут же отозвалась секретарша. Знаю я ее, сухая как вобла англичанка, на нее даже Джеймс Бонд не покусился бы, хоть они явно работают в одном ведомстве. «Да, мистер замгендир сможет принять вас в 17:30, после совещания с региональными координаторами, но не более, чем на полчаса, в 18:05 он отбывает в аэропорт. Надеюсь, вы его не задержите». Да мне и полчаса на него убивать жалко, но что поделаешь, служба.
Кофе у них в автомате отвратительный, а столовка уже не работает. Анестезия давно отошла, но язык был шершавый, как рашпиль, и десна чуть побаливала, хотя по сравнению с шипящей змеей это было как ласкающее дуновение средиземноморского бриза. Или мистраля. А может, фёна?
Женева — странное место. Говорят, древние римляне ссылали сюда своих каторжан. Якобы из-за отвратительного климата, где народ долго не протягивал. Город действительно расположен вроде как в провале между горами, куда натекла вода и осталась в виде озера. Горы, хоть и невысокие, но почти со всех сторон, и воздух над городом стоит почти недвижимо, насыщаясь выхлопными газами и, как утверждают некоторые, вредными ионами, разрушающими хрупкое здоровье утомленных подсчетом доходов банкиров. А потом начинает дуть фён, горячий ветер, выдувающий душу, у кого она есть, и плавящий мозги даже у тех, у кого их нет. Дует он, по преданию, один, три или семь дней, и в это время у слабых мутится рассудок, растет число самоубийств и дорожных происшествий, разводов и несчастных случаев на производстве. На меня фён действует слабо, но голова болит с самого утра, какая-то игла зудит в черепе, и ловишь себя на том, что чуть не проехал на красный свет, которого почти не заметил из-за мути в глазах. Много раз я собирался проверить, действительно ли он дует такое число дней, как говорят, и почему якобы не дует пять дней, но так никогда и не удосужился или забывал. Ладно, спишем это на влияние того же фёна.
Из окна замгендира открывался роскошный вид на озеро Леман, как его называют местные жители, хотя всем прочим оно известно под скромным названием Женевского. За озером были, конечно же, горы, и где-то во впадинке между ними за дымкой прятался Монблан. Про него есть примета, которая точно сбывается, сам проверял. Если сегодня ясно виден Монблан, завтра погода испортится и зарядят долгие дожди.
Замгендир даже не притворялся, что рад моему приходу. Он ведь знал, в чем состоит моя настоящая работа. В таком маленьком заграничном коллективе все всегда знают, кто есть кто, и никакая конспирация не помогает. Так что радоваться моему приходу у него не было никаких причин. Он опасался, что к нему будет какая-то просьба, от которой и отказаться нельзя, и выполнять муторно, а может, и опасно для репутации и карьеры. Чтобы оттянуть момент получения «просьбы», а вернее приказа, подлежащего неукоснительному исполнению, он стал что-то рассказывать про свою работу, большую занятость, предстоящую командировку, явно в надежде, что дотянет до шести, а потом войдет секретарша и он с плохо скрытым вздохом облегчения покорится ее строгому взгляду, предписывающему распрощаться с посетителем и отбыть в аэропорт.
Я не прерывал его, поскольку конкретного вопроса или просьбы у меня к нему не было, и мне было даже немного жаль этого уже пожилого, заслуженного человека, как говорили, в прошлом способного врача, который потом соблазнился 4-м управлением минздрава, пользовал членов политбюро, и, похоже, неплохо, если его перед пенсией отправили подзаправиться валютой. Видя, что его не перебивают, он заговорил все уверенней, но не переставал быстро поглядывать на стоявшие у него на столе часы в виде морского штурвала. Кажется, такие точно или очень похожие были на столе в кабинете Брежнева. Не то чтоб я там бывал, но на фотографиях они мелькали. Символ кормчего, так сказать. А что стоит на столе у нынешнего кормчего? Нет, зачинщик и идеолог перестройки не может держать у себя такой штурвал. Все равно, небось, не удержит.