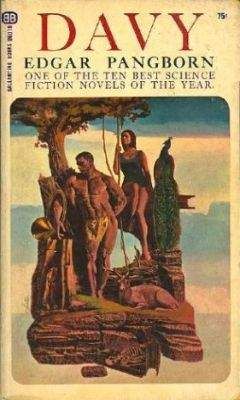Я не имел ни малейшего понятия, что за обучение она имеет в виду — ведь рассказывая историю своей жизни, я уже упомянул, что прекрасно умею обращаться с мулами. И тем не менее я сказал:
— Да… честно, я буду делать все!
При этих словах папаша Рамли засмеялся, булькая в бороду, но мамочка Лора адресовала свою улыбку не столько мне, сколько всей Вселенной.
— Вот так, Лора! — сказал папаша Рамли. — Разве не говорил я, что где-нибудь да добуду тебе чертова ученика, чтобы получить хоть какую-то пользу из книг, которые все эти годы отнимают силы у мулов? А может быть, я добыл и не одного. Ты как, Сэм Лумис, годишься для книг?
Мой отец выглянул в маленькое окошечко — они были из настоящего стекла, вшитые в брезент так искусно, что никакой ветер бы не смог выдавить их или задуть внутрь капли дождя. На миг он показался мне много старше, чем был когда-либо прежде; если и была в его морщинистом лице скрытая радость, то я не обнаружил ее.
— Не судьба мне, папаша Рамли, — сказал он. — Я попытался однажды немного поучиться, когда мои молодые годы уже давно прошли… А впрочем, это не важно. Если леди станет учить моего сына, ручаюсь, он будет ходить на уроки и они пойдут ему на пользу.
Папаша Рамли поднялся, хлопнул Сэма по плечу и кивнул мне.
— Он и с горном своим неплохо управляется, — сказал он. — Ну что ж, оставайтесь, джентльмены. Вам повезло! Просто так получилось, что вы заглянули ко мне в удачное время: я давно оправился от шока при рождении. А главное — я пока не умер. Когда еще приниматься за человека, если не между его рождением и смертью? И если сукин сын не возразит вам в это время, значит, не возразит никогда.
Мы остались — на четыре года.
Папаша Рамли был наблюдательным человеком. Трезвый ли пьяный ли, он все еще относился к себе критично — если только не переходил порог, который и сам не всегда осознавал, и не погружался в черную пучину отчаяния. Тогда ему не хватало рассудительности, и кому-нибудь приходилось быть с ним и пить с ним до тех пор, пока он не назюзюкивался вдрыбадан. За исключением этих нечастых случаев, его грусть всегда была окружена нимбом веселья — так же, как даже в самом веселом его смехе всегда таилась нотка печали. Это верно для любого из нас, но в нем присутствовало в более явном виде, как будто эмоционального сырья, которого природа, не желая рисковать, выдала нам всем по ложечке, папаше Рамли досталось целое ведро.
Папаша, бывало, заявлял, что он боролся, трудился и возглавил лучшую чертову шайку на свете по одной простой причине — потому что в глубине души был благодетелем дерьмовой лядской расы, которая без него наверняка бы сдохла от скуки, собственного убожества и всеобщей глупости. И если добираться до сути, то он вовсе ничего не имел против лядей, за одним исключением — он ни за что бы не произнес это дерьмовое название через «лю»…
У него был длинный и толстый нос, оканчивавшийся двойной шишкой. Этому органу когда-то в далеком прошлом изрядно досталось, так что, когда я познакомился с папашей Рамли, нос был уже нацелен куда-то в район правого плеча. Папаша сказал, что его согнули не в драке; просто кто-то в молодости уселся на него. Он утверждал также, что никогда не дрался — ну разве иногда, крайне редко, дубиной, — и потому ему ни разу не доводилось быть побитым. Однако, когда я видел, как папаша Рамли лично уложил Баклана Донована, который считал себя боссом в Тюленьей Гавани, у папаши не было никакой дубинки, за исключением кулака, но все две сотни футов Баклана были вырублены на совесть. (Я немного помог в той заварушке, мне стукнуло пятнадцать, и я был драчливым — временное состояние, нечто вроде болезни роста.) А в другой раз папаша сказал, что его нос приобрел крен на правый борт от постоянной необходимости держать ушки на макушке и чуять праведников, которые обычно подбираются к человеку с тыла.
В любом случае, это был отличный нос, полезный для всей шайки, поскольку он говорил о настроении его владельца: пока нос оставался красным или закатно-розовым, можно было ни о чем не тревожиться, но если он белел, когда папаша был трезв, а у вас было что-то на совести, благоразумнее всего было убраться лаз подальше и надеяться на лучшее. Глаза тоже были важными знаками, маленькие, черные, беспокойные. В противоположность носу, они наливались кровью, когда папаша вступал на тропу войны — но если вы оказывались так близко, чтобы заметить это, вам бы уже не удалось спастись бегством.
Я никогда не видел, чтобы он ругал кого-то не по делу. Все, кто заслуживал порции брани, испытывали ощущение падающего на них высокого здания, а когда выбирались из-под обломков, всегда поразительно уцелевшие, они могли поступить так, как велел папаша, или убираться к чертовой матери. За все время, что я был с Бродягами, добровольно никто не ушел, кроме меня, а когда ушел я, в этом не было вины папаши Рамли или моей собственной: я ушел с его добрыми пожеланиями. Если бы я когда-нибудь увидел его снова — пустая надежда в сложившихся обстоятельствах, — это бы непременно стало поводом для душевного разговора и длительной попойки. Ему должно стукнуть уже семь десятков, и все же он кажется мне вечным, и я бы ничуть не удивился, узнав, что шайка все еще носит его имя, все еще попирает колесами дороги, а он сам — все еще царь и бог.
Он никогда не бывал груб с женщинами, за исключением любовных игр, когда брал кого-нибудь в партнерши — на ночь или на неделю… В общем, на то время, которое устраивало обоих. Время от времени я слышал, как они мелодично причитали в его спальном отсеке, а в следующий миг уже смеялись или бессвязно лепетали задыхающимся голосом, и в этом не было ни капли притворства — одна откровенная страсть. А потом они выходили из фургона, изрядно помятые, но всегда с удовлетворением во взоре.
Папаша Рамли не болтал о своих постельных играх — тем, кто болтает о таком, на самом деле похвастаться нечем, — но некоторые из женщин рассказывали, в том числе и мне, когда я, довольно долго пробыв с табором, развил в себе привычку слушать, что для подростка почти немыслимо. В особенности любила анализировать свои чувства Минна Селиг. Она была на два или на три года старше меня и получала от постельных воспоминаний какое-то непонятное удовольствие. Я помню один случай, когда она не могла успокоиться до тех пор, пока не сравнила в мельчайших подробностях мое исполнение (это было ее словосочетание) с исполнением папаши. Мне нравилась эта крошка, но в тот раз я страстно хотел, чтобы она заткнулась. В конце концов, я никогда не заявлял, что чертовски хорош в этом деле! Бонни Шарп вразумила бы Минну с легкостью, но я с нею совладать не мог. Когда Бонни не было поблизости, Минна умудрялась вцепиться в какой-нибудь пустячок так, будто это была жуткая проблема, которую надо решать немедленно, а все остальное вполне способно и подождать. Я не хочу сказать, что она была жестокой; просто она каким-то образом получала от всего этого удовольствие, примерно такое же, как глупый невежа, вроде меня, — от смеха. Именно искренность папаши Рамли, объяснила она, делает его в постели лучше мальчишки… Не хочу тебя обидеть, Дэви, но думаю, мужчина осваивает это лишь с возрастом. Папаша — как скала, понимаешь, я хочу сказать, что даже его лицо становится жестоким и почти холодным, как будто он вообще тебя больше не слышит, и ты знаешь, что можешь кричать, драться, вырываться — ничего не поможет. Пусть даже фургон загорится, но он не остановится до тех пор, пока не добьется своего. (Я сказал: «Ты имеешь в виду, что это будто тебя трахает гора», но она не слушала.)