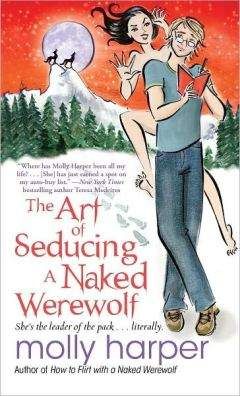– Вряд ли, – сказал Панарин. – Так могло бы быть, не верь я в наш успех. А я верю, знала бы ты, как я верю… Меня другое мучает.
– Я?
– Ты, – сказал Панарин.
– Ну что мне с тобой делать? Как тебя научить не изобретать сложностей и смотреть на вещи проще? Почему ты уверен, что слова «романтик» и «любовь» должны действовать на женщину как магические слова и автоматически превращать ее в героиню рыцарского романа? Прошлым ты живешь…
– Чем бы я ни жил, другим я не живу, – сказал Панарин.
– А это плохо.
– Не думаю.
– А ты подумай.
– Ладно, хватит, – сказал Панарин, – очень уж похоже на диалог двух глухих…
Она никак не могла стать той, настоящей, скрываясь за броней, закаленной на каких-то давних обидах и разочарованиях, рассудочной холодности, забавного до печали рационализма. Все, чем она прикрывалась, придумано даже не вчера, и несостоятельным оказалось даже не позавчера – гораздо раньше…
Запищал сигнал, и Панарин взял браслет со столика.
– Если опять какое-нибудь чудо, я не вынесу, – сказала Марина. – Сколько можно?
– Тим?
– Да, – сказал Панарин. – Что случилось?
– Тебе срочная космограмма с Земли.
– Излагай.
– «Прилечу завтра Стах».
– Спасибо. Доброй ночи.
– Ну вот, – сказала Марина. – Прибывает твой верный единомышленник.
– Почему такой тон? Тебе что, неприятно с ним встречаться?
– Очень даже наоборот, – сказала Марина с безмятежной искренностью. – С удовольствием с ним встречусь, есть чем встретить.
– Думаешь, это его уязвит?
– Ничего я такого не думаю. Просто я немного злопамятна, так, самую чуточку, по-женски, и мне приятно вспомнить, что когда-то он не принимал меня всерьез. И он об этом помнит, а ему, ты сам наверняка лучше меня знаешь, досадно будет сознавать, что когда-то он крупно ошибся в оценке человека…
– Комариный укус.
– Ну и пусть. Зато мое профессиональное самолюбие торжествует. – Она перехватила брошенный на часы взгляд Панарина. – Куда-нибудь собираешься?
– Да.
– Куда это, интересно?
– Тут недалеко. Там будут… наши.
Она поняла и тихо спросила:
– А мне можно?
Панарин кивнул. Он не сомневался, что ею пока движет лишь любопытство, сопровождающееся вежливым состраданием. Но это ничего. Нужно же с чего-то начинать, пусть проникнется, если сможет…
* * *
На элкаре они доехали до маленького, с метр высотой, обелиска – простенькой пирамидки, поставленной на том месте, где пятнадцать лет назад на Эвридике приземлился первый корабль с Земли, звездолет Дальней разведки «Орел», и первый землянин ступил на Эвридику. Имени его, разумеется, на пирамидке не было, там вообще не было ничьих имен, только дата – никакого великого подвига не совершили ребята с «Орла». Можно было, собственно говоря, не ставить и саму пирамидку, но почему бы и нет? Когда-нибудь она окажется в центре большого города, и кому-нибудь, возможно, интересно будет посмотреть на то место, с которого все начиналось…
Сквозь редколесье мерцал костер. Панарин взял Марину за руку, переплел ее пальцы со своими, и они пошли в ту сторону. Маленький живой огонь горел на равнине, ввинчивались в темноту искры, и отчетливо доносилась песня:
– Нам судьба под завязку
отвалила прохладного неба,
и старинную песню
моторы протяжно поют.
Между жизнью и смертью,
между зноем и бешеным снегом
с неугасшей надеждой
мы летим на планету свою.
Вокруг костра сидели человек сорок – и те, кто имел прямое отношение к Проекту, и те, кто считал, что им тоже необходимо побыть сегодня вечером у этого костра. Никого сюда специально не приглашали, но никому не возбранялось сюда приходить. Панарин опустился на землю, Марина устроилась рядом, отсветы костра их не достигали, и лишь двое-трое оглянулись на них мельком.
– Нам фортуна отсыплет
чуда полные горсти —
за утраты и раны,
за любовь, за судьбу, за мечту.
Только где ж вы, ребята?
Что ж ушли вы, как поздние гости,
из полета и скачки?
Ведь погоня за звездами
вам по крылу и плечу…
Отзвенели аккорды, гитару у Риты взял Рамирес и запел старую кубинскую песню о голубом попугайчике, что сидел на плече у известного всей Гаване продавца лотерейных билетов, а потом продавец ушел в горы Сьерра-Маэстры, потому что такое уж настало время, а вернуться в Гавану ему не пришлось, и потерявший хозяина попугай умер от тоски, но спасибо ему за то, что он вытащил все же счастливый билет… Панарин тихонько переводил песню Марине, но после второго куплета она прижала ладонь к его губам и прошептала, что и так понятно. Гитара переходила из рук в руки, пели песни на разных языках, пели грустные и веселые.
– Значит, можно всякие? – шептала Марина.
– Ага, – тихо ответил Панарин. – В эскадрилье Сент-Экса принято было поминать погибших друзей танцами с деревенскими девушками. И не только у них, и не только так. Главное, чтобы это было от души…
Гитара оказалась у Марины, и она запела старинную английскую балладу:
– Ну что же, у нас неплохие дела,
так выпей же с нами, красотка!
И с ними была, и с ними пила
Джейн – Оловянная Глотка…
Никто не удивился, слушали серьезно.
– И с ними до страшного помоста шла,
и с ними до смертного часа была
Джейн – Оловянная Глотка…
Следующая песня не прозвучала – все смотрели вверх. Высоко в ночном небе вспыхивали строгими букетами, переливались и гасли синие, цвета земного неба, гирлянды траурного салюта. И три новых имени на стеле красного гранита в Парке памяти – этот парк не так уж мал, и лучше бы его никогда не было…
Потом низко, метрах в ста над землей, бесшумно, как тень, промчался над костром, заслоняя созвездия, один из звездолетов полигона.
– Ничего, если мы уйдем? – шепнула Марина.
– Ничего, но почему?
– Уйдем, хорошо?
Они пошли назад, между деревьями, без дороги – сюда еще не протоптали тропинку, и это хорошо – поменьше бы таких тропинок. Песня затихла за их спинами:
– Царской волею гоним,
и гоним судьбой,
отправлялся на войну
прапрапрадед мой.
В счет, не в счет,
чет-нечет,
Ментик – не броня.
Деда меч стережет,
Знать бы, что – меня?
– Что это вы выбрали такую песню? – спросил Панарин.
– А что?
– Трудно представить, как ты идешь за кем-то на эшафот, зная, что у тебя вечно кто-то не последний…
– Дурак…
Панарин не успел придумать ответ – Марина прижалась к нему, стиснула плечи до боли. Она не плакала, просто застыла, вцепившись в него так, словно через минуту должен был грянуть конец света, и Панарин боялся шевельнуться. Еще ни одну женщину ему так не хотелось понять и защитить от чего-то неясного ему самому – то ли от нее самой, то ли от глупых масок неизвестного театра, – но как это сделать, он не знал.