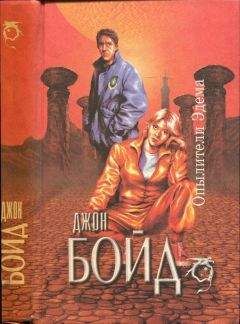Она решила, что если у нее будет сын, она назовет его Эдмундом в честь персонажа из «Короля Лира». Дочь она назовет Флориной.
Так она глотала то уксус, то вино, а Время продолжало течь и нести ее, и принесло, наконец, в родильное отделение, где в тумане анестезии над ней проплыли закрытые масками лица, и ее последняя связная мысль была молитвой о том, чтобы это был ребенок Пола.
Когда в палату принесли ребенка не в плетеной колыбельке, а на белой подушке, Фреда почувствовала, что это один из составных элементов шоковой терапии доктора Уотса. Они подготовили ее, как принято, но одели в ночную сорочку из ткани с орхидеями. Оба доктора были здесь, шагая друг за другом впереди медицинской сестры родильного отделения, которая принесла ребенка и передала его Фреде в руки. Говоря точнее, она принесла подушку, на которой лежал ребенок, и опустила ее на руки Фреды.
Дитя Фреды было красноватым, текстуры красного дерева, семенем в форме удлиненного футбольного мяча около пятнадцати сантиметров в обхвате и с аккуратно завязанным пупком На одном его конце был слабый светлый пушок, и Фреда затрепетала от радости, поняв, что Пол Тестон, по крайней мере, внес свой вклад в ДНК ее ребенка.
— Фреда, — зачирикал доктор Френкс, стоя в ногах ее кровати, — в таких случаях обычно говорят: какой красивый мальчик, или девочка. Ей-богу, я не знаю кто это!
Фреда едва слушала его, вперив восхищенный взгляд в плод своего чрева. Она упивалась лицезрением его переливчатости. Ей нравился исходивший от него тонкий аромат ванили. Ее буквально заворожила его почти совершенная овальная форма. Это было ее дитя, зачатое в красоте и рожденное в исключительный для истории человечества момент, неплачущее, несрыгивающее, не нуждающееся в смене пеленок, которое понесет свою генетическую формулу с собой, куда бы оно ни отправилось. Но важнее всего было то, что в ее руках лежал мост между жизнью и смертью вселенных, и кто сможет поколебать ее чувство гордости детищем, которое предопределено для бессмертия?
Сквозь нимб ее радости пробился скрежет голоса доктора Уотса, спрашивающего:
— Фреда, вы чувствуете материнскую гордость за это?
Фреда подняла на доктора сияющие глаза:
— Доктор Уотс, каждая мать думает, что ее ребенок единственный в своем роде среди детей всего мира. Для меня — это истина на вечные времена.
— Грош мне цена, как акушеру, если я не поручусь за это, — сказал доктор Френке. — Но есть одна вещь, которую мне хотелось бы проверить, Фреда. Клянусь, что я слышал сердцебиение.
Доктор Френке наклонился над подушкой, которую держала Фреда, и поставил стетоскоп посередине между пупком и светлым пушком, внимательно прислушиваясь.
— Черт побери! Я слышу сердцебиение.
— Доктор Френке, — сказал доктор Уотс, — усиление звука так высоко, что ваш стетоскоп улавливает тиканье часов на вашей руке.
Уотс повернулся к Фреде и заговорил с необычной нежностью в голосе:
— Что вы собираетесь с этим делать, Фреда? Похоронить или кремировать?
— Ни то, ни другое, — ответила Фреда. — Мы его высадим. Не здесь. Отправьте его самолетом доктору Клейборгу в Санта-Барбару. Он знает, как подготовить почву. Но позвольте мне подержать его немножечко подольше.
Она вновь обратила взгляд на овальную форму, испытывая вселенское чувство обожания всего материнства, подкрепленное более личной радостью осознания свершившегося. То, что она держит в руках, больше чем самое неповторимое дитя в мире; это — деяние Божье, которого потребовал Клейборг, и за ним, как ночь следует за днем, последует указ Президента.
В ее руках на подушке лежит ее собственный, красноватый, с текстурой красного дерева паспорт на Флору.
Доктор Уотс опять отрывисто-грубо давал указания медицинской сестре завернуть семя в мягкую упаковочную бумагу и отослать в Санта-Барбару. Он выпроводил сестру вместе с семенем, помог доктору Френксу, слегка сконфуженному, выйти из палаты, затем тихо прикрыл дверь и запер ее изнутри.
Когда доктор Уотс повернулся к Фреде, его лицо больше не покрывала изморозь высокой моральной нравственности. Лед вечной мерзлоты треснул, и оно то тряслось, то переставало трястись, отражая тщетность его попыток сохранить самообладание. Шатаясь, словно под тяжелой ношей, он подошел и стал на колени подле ее кровати, взял ее за руку и зарыл лицо в ее постели. Внезапно она поняла, что он плачет, что слои его нью-хемпширского гранита дали трещину. Свободной рукой она потрепала и погладила его по голове, и он поднял на нее заплаканные глаза.
— Фреда, простите меня. Вы — Мать Земли. Я никогда не видел такого прекрасного материнского сияния в глазах женщины, да еще в таких недоброжелательных условиях. Я был несправедлив к вам, Фреда.
— До того, как вы стали психиатром, доктор Уотс, как вас звали ваши друзья?
— Ронни.
Фреда создала образ красной орхидеи вокруг поднятого к ней лица. Одна из его проблем, как она сразу почувствовала, засела очень глубоко, хотя была простой: он был очень рано отлучен от матери. Хотя непосредственной причиной перестройки его реакции была близость к лактозе, ее напугала глубина эдипова комплекса, лежавшего под гранитной жилой. Ее суровый павловист и в тайне и явно был именно таким, каким она часто называла его про себя, — питающим любовь к матерям.
Она вспомнила, что самопознание не считается у павловистов необходимой составляющей терапии. Все, что было нужно Ронни, это приобрести новые привычки и заменить ими старые, и она могла бы тут же провести переподготовку. Он, со своей стороны, мог бы помочь ей в решении не главной, но не дающей позабыть о себе проблемы Что касается рождения семени, то, говоря словами Хала Полино, «нет напряжения — нет и боли», но были некоторые сопутствующие неудобства.
— Ронни, — сказала она, слегка приподнимая его, теперь сияющее, лицо за подбородок. — Наш мир — это мир взаимных соглашений. Великодушие теперь так редко, что великодушных заточают в неких учреждениях и дают им длинные латинские названия. Я хочу что-то сделать для вас, но прежде вы должны что-то сделать для меня.
— Все что угодно, Фреда. Я сделаю что угодно во искупление вины.
То, что она предложила, было скорее тремя подарками подряд, чем взаимным соглашением, но она хотела, чтобы, он думал, будто и он внес свой вклад, а она не желала оставлять на Земле никаких неподвязанных концов. Пока он наклонялся, чтобы поцеловать ей руку, она немного поправила свою ночную сорочку.
Когда Ронни поднимал глаза, быстро промелькнувшее перед ней их лучезарное сияние подтвердило ей, что проведенный анализ его проблем был правильным. Когда он немного выпрямился и склонился к ней, она знала, что Земля приветствует самого последнего из обращенных ею гуманистов и прощается с недавним пуританином.