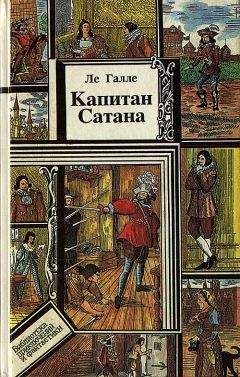И вот обитатель тех мест, конечно, несмотря на обращение в христинство, несущий в себе дикарское изуверство отцов и дедов, должен был наказывать провинившихся учеников коллежа де Бове, став его экзекутором.
Когда аббат Гранже вошел с провинившимся Савиньоном в коридор. Индеец в испанской одежде, огромный, краснокожий, с безобразным скуластым лицом без всякой растительности на нем, стоял, скрестив руки на груди, в проеме двери «камеры порок» (экзекуторной), сообщавшейся с темным карцером.
При виде юноши, ведомого за руку аббатом, индеец напрягся, вперив колющий взгляд в первую, быть может, свою жертву.
Толпа воспитанников, отстоявших в отличие от Савиньона молитвенное бдение, наполнила коридор и замерла при виде преобразившегося индейца, побледневшего аббата, даже утратившего желтизну лица, и упрямо нагнувшего голову Савиньона, не ждавшего для себя ничего хорошего.
Затаив дыхание, не сводя глаз с заокеанского истязателя, все воспитанники коллежа услышали прерывающийся голос аббата, со злостью выкрикнувшего по-испански индейцу:
— Этот юный идальго приговаривается мной за богопротивные речи к двадцати пяти ударам плетью со свинчаткой и двум суткам карцера.
Услышав это, товарищи Савиньона, как и он, изучавшие здесь испанский язык, ахнули от ужаса. Двадцать пять ударов плетью со свинчаткой! Да после такого истязания, проведенного заморским палачом, Савиньон не встанет! Надо сказать, что воспитывались все они во времена, когда не забылись еще дела святой инквизиции.
Кто-то попробовал заикнуться о пощаде виновного Сирано, но аббат Гранже смерил смельчака таким взглядом, что тот быстро спрятался за спины других юношей. Даже те, кто неприязненно относился к Сирано, были потрясены таким бесчеловечным приказом аббата.
Индеец, не спуская пристального взгляда с наказанного, молча поклонился аббату.
Савиньон крепко сжал губы, припомнив, как в детстве порол его отец, не услышав от него стона. И сейчас, к удивлению всех столпившихся учеников и ярости аббата Гранже, Савиньон вызывающе произнес:
— Ха-ха!
И тут аббат Гранже, забыв о своей незаживающей ране сострадания, повелительно махнул индейцу рукой. Тот неторопливо подошел к Савиньону, грубо схватил за руку и повлек за собой в «камеру порок». Аббат сам захлопнул за ним дверь.
Но что творилось в сердце аббата!
И когда за дверью раздался отчаянный крик истязуемого, аббат опустил глаза, молитвенно сложил руки на груди и медленно пошел прочь, он старался не слышать звонких ударов утяжеленной плети. Крики Сирано хлестали тощее тело аббата некой изуверской плетью. Аббату хотелось зажать уши и бежать, глуша в себе не только ужас перед истязанием живого существа, но и присущую ему в тайниках души нормальную человеческую жалость, которую он готов был воспринять как искушение дьявола, и он, не выдержав криков жертвы и собственных мучений, подобрал сутану и побежал, провожаемый враждебными взглядами учеников. Но если бы знал аббат, что творится за дверью камеры… он лишился бы чувств при виде открывшейся ему картины.
Зловещий дикарь с ярким перышком в черных волосах, испанская одежда которого из-за размалеванного краской лица не делала его более привлекательным, упал ниц перед провинившимся воспитанником коллежа де Бове и, распростершись на каменном полу, произнес шипящим голосом:
— О потомок богов! Мой просить — твой кричать, твой — когти ягуар кричать. Мой бить скамейка.
Савиньон с трудом понял исковерканную испанскую речь краснокожего. Впрочем, он сам не был силен в испанском языке, но, только что выкрикнув перед аббатом дерзостное «ха-ха!» и заподозрив теперь коварство нового экзекутора, он, сжав зубы и с трудом подбирая слова, процедил:
— Когда на скамейке окажусь я, не услышит твое ухо стона.
— Гордый слова! Говорить такой твой иметь знак богов на лицо. — И, поднявшись на колени, экзекутор снова земно поклонился, потом вскочил на ноги, взмахнул оказавшейся у него в руках плетью, хлестанул ею по пустой скамье и визгливо вскрикнул, как от нестерпимой боли.
— Кричать! Кричать визгом! Помогать мой! Такой нужно не твой. Такой нужно мой, — шипел он.
Савиньон Сирано обладал редкой остротой ума и столь же редкой быстротой реакции. После следующего удара плетью по скамье он завопил благим матом, и теперь за дверью его товарищи, да и аббат Гранже, еще не отошедший далеко, узнали голос первого насмешника коллежа, только что дерзившего его настоятелю.
И этот истошный крик не только преследовал аббата, обратив его в бегство, но и разогнал от «камеры порок» перепуганных воспитанников, которые отныне будут всячески стремиться избежать этой ужасной комнаты и истязаний заморского изувера.
А после двадцати пяти ударов плетью по скамейке индеец, тяжело дыша, сказал Савиньону тем же свистящим шепотом:
— Теперь стонать! Горько стонать! Мой переносит твой в карцер. Снимать камзол, снимать рубаха. Спина голый. Надо показывать кровь и мясо.
Савиньон послушно оголил спину и ощутил кожей прикосновение влажных пальцев индейца, очевидно вымазанных краской. Тот раскрашивал спину «своей жертвы», как размалевывал перед тем для красоты собственное лицо.
— Мой уметь делать знак кровь щека. Теперь делать такой знак твой спина. Сеньор аббат, да хранит его господь, хорошо увидеть прийти проверяй.
Истинный друг познается в несчастье.
Эзоп
Дон Диего Лопес, приговоренный в Андалузии за убийство во время пьяной драки к смертной казни, а до этого в Генуе за грабеж — к каторге, сумел избежать и того и другого, уплыв в третью пятницу марта месяца 1618 года в Новую Испанию на каравелле сеньора Базильо Родригеса, который не интересовался прошлым людей, стремящихся к подвигам.
Эти подвиги дона Диего Лопеса обратили на себя внимание самого губернатора Новой Испании, очередного преемника прославленного своей жестокостью и коварством генерал-капитана Кортеса. Сто лет назад он с горсткой отчаянных конкистадоров, наивно принятых индейцами за вернувшихся к ним с неба белолицых богов, сумел вероломно, без всякого сопротивления захватить и императора Монтесуму, его столицу Теночтитлан и всю его страну. И Кортес успешно добывал там столь необходимое христианнейшим монархам золото (конечно, не из земли, а из дворцов и храмов, а также с запястий, с пальцев, с шей язычников, обращаемых в христианскую веру). Книги их сжигались епископом новой епархии перед построенным христианским собором как богопротивные, написанные варварской письменностью.
Дон Диего приложил к этому свое усердие, показав готовность точно так же служить короне.