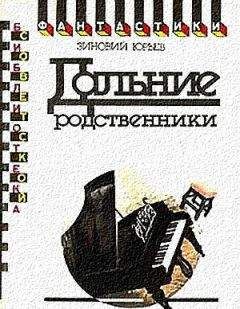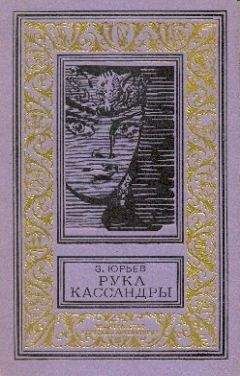Жоржетта Ивановна посмотрела на него, вздохнула.
— Я думаю, завтра мы с ним закончим, и я оформлю все бумаги. — Она еще раз устало вздохнула. — Скажите, у вас… вы не могли бы попросить вашу машину подбросить меня до диспансера?
— К сожалению, вряд ли. У нас всего одна легковая машина, и ту директор никому не дает.
Собственно говоря, другого ответа Жоржетта Ивановна и не ожидала. Удача всегда поворачивалась к ней задницей, в крупном и мелком. Всю жизнь, сколько она себя помнила, она куда-то спешила, куда-то тащила тяжеленные сумки, и никто никогда не помогал ей.
Всю жизнь она втискивалась в автобусы, впрессовывалась в людскую стену в вагонах метро, чтобы выкроить несколько квадратных сантиметров для себя, всю жизнь смотрела на часы, и всегда ей казалось, что она потная. А может, она и была потная. Так и прожила жизнь вспотевшая, как марафонец на дистанции, словно пробежала ее.
Она подумала о старичке, что только что сидел перед ней. Писатель. Сорок лет не знал, что такое час «пик». Ей хотелось презирать его, его праздную, легкую жизнь, презирать хотя бы для того, чтобы оправдать свою. Но презрения не было. Была только усталость и ощущение высохшего пота на спине.
— Что делать, — сказала она, привычно подняла с пола нагруженную сумку в нелепых пальмах с купленными сегодня — повезло все-таки! — пятью банками зеленого горошка, обтянутыми пластиковой пленкой. — Что делать, — повторила она и пошла к двери.
Владимир Григорьевич дремал, а может, и спал, и снилось ему, что бежит он босым по живому упругому зеленому травяному ковру. Трава была утренняя, роса еще не высохла, и прикосновение голых подошв к ней было пронзительно сладостным. Так был он переполнен счастьем, что оно не помещалось в нем, выплескивалось при каждом толчке, и он подумал, что надо бежать осторожнее. Он стал отталкиваться от земли реже, но почему-то продолжал мчаться с прежней скоростью. Просто теперь он долго летел после каждого толчка над землей, и густой, теплый, настоянный на травах воздух легко поддерживал его.
Счастье, которое испытывал он во время беззвучного своего полета, было таким полным, что было ему одновременно и грустно. Не мог он разделить восторга невесомости с Наденькой, которая не хотела бежать вместе с ним, а махала ему рукой откуда-то издалека. И с дочкой, с внуком.
Ему казалось, что лицо его было влажно, как и ступни. Наверное, он плакал. А может быть, и не плакал, потому что слезы не могли тут же не высыхать в стремительном полете. Он знал, что спал, и все-таки рассуждал логично, и это его рассмешило, он раскрыл было рот, чтобы рассмеяться, но тугой теплый воздух тотчас же закупорил его, и он не то, что смеяться, даже вздохнуть не мог.
Он открыл глаза. С правой дверцы шкафа смотрела на него знакомая лошадиная морда, образованная древесными прожилками. Лошадь смотрела сочувственно. Очень чуткая была коняга. За несколько лет совместного житья она хорошо изучила его привычки и знала, что, просыпаясь, Владимир Григорьевич не сразу определял свое место во Вселенной, а несколько минут лежал неподвижно, приходя в себя.
Начало темнеть, и шестьдесят восьмая комната была полна слегка зеленоватых теней. Владимиру Григорьевичу вдруг остро захотелось услышать голос Кости. Ему показалось, что скажи сейчас режиссер свое «абер дас ист ниче-во-о», и вправду все было бы ниче-во-о. Но Кости не было. Видел он какой-то сон, но не сумел удержать его в памяти, уплывали последние его редеющие клочья. Как будто куда-то бежал он, что ли…
Густели тени в комнате, теряли зеленоватый оттенок, а он все лежал в темноте. Лежал на кровати на спине и боялся повернуться, потому что опять запеленала его душная обессиливающая истома, как в кабинете у Юрочки, когда мучила его строевая врачиха с шиньоном на голове. Вместе с истомой наплывала на него тяжкая печаль. Жаль, жаль было чего-то, что не умел он определить, жаль.
Внезапно Жоржетта Ивановна, невесть как появившаяся в комнате, сделала быстрый фехтовальный выпад, даже ногой притопнула, и в вытянутой ее руке с облезлым маникюром холодно и страшно блеснула рапира. Владимир Григорьевич хотел было удивиться, откуда у этой халды рапира, но не успел, потому что лезвие уже впилось ему в грудь.
Боль была такой страшной и огромной, что спрятаться, увернуться от нее он не мог, он знал это. Она накатилась с торжествующим ревом, эта волна боли, смывая все на своем пути: тягостный душащий ужас, Жоржетту Ивановну, клочья сна, испуганную конскую морду, даже боль смывала она. Да, даже саму боль, из которой состояла.
Она подняла Владимира Григорьевича, подняла легко, качнула и схлынула, а он остался где-то наверху. Он знал, что наверху, потому что видел свое тело в любимой теплой пижамке, лежащее внизу на кровати.
Жаль, жаль было… И покойно. И уплывал вдаль старичок в знакомой пижаме, а он уже летел по темному туннелю, туннельный эффект… но страшно ему не было, потому что впереди был свет, и он понимал, что туннель скоро кончится и что все на самом деле значительно проще, значительно проще…
Юрий Анатольевич присел на корточки перед тумбочкой Владимира Григорьевича. Он уже составил опись всей одежды, что была в шкафу, обуви, содержимого двух чемоданов. Он открыл скрипучую дверцу. Сверху на стопке книг и журналов лежала палехская шкатулка с отбитым краем. Тонконогие кони с лебедиными шеями мчали куда-то нарядные сани. Он открыл ее. Пятиугольничек ордена Красной Звезды с потемневшим ободком, орден Отечественной войны, две медали. Он взял опись. Как записать, каждый орден по отдельности? Орден Красной Звезды — один прописью. Было в этом что-то святотатственное, и он записал: палехская шкатулка с орденами и медалями.
Под коробкой лежал запечатанный конверт с непривычным адресом: Корабль «Константин Паустовский». Штурману Александру Семеновичу Данилюку. Ах да, это же внук. Письмо внуку. Юрий Анатольевич положил письмо себе в карман. Сегодня же надо отправить. Неважно, что телеграмму о смерти дедушки штурману уже отправили, пусть получит и последнее письмо.
Из журнала «Театр» торчал краешек какой-то фотографии. Может быть, тоже отправить внуку? Он потянул за краешек, и в тумбочке почему-то стало светлее. Что за чудеса. Он вытащил фотографию. Из плотного, размером с обыкновенную почтовую открытку, листка струился яркий свет, это была не фотография, а маленькое окошко, маленькое открытое окошко, сквозь которое видна была залитая солнцем лужайка, Владимир Григорьевич, девушка и молодой человек. Все улыбались. И улыбки не были неподвижными, выхваченными из времени стремительным щелчком затвора, а живыми. И даже головы поворачивались. Девушка смотрела на Владимира Григорьевича и что-то говорила. Юрий Анатольевич видел, как шевелились ее губы, и непроизвольно прислушался. И услышал тонкий голосок: «Дедушка…» Тонкий, ласковый голосок.