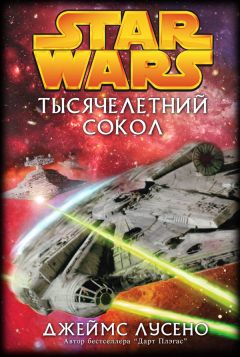Всю боль, всю печаль Твоего бедного сердца Гибкой иве отдай.
Это значит…
— Я понимаю. Конечно. Я понимаю. Спасибо вам…
— И вновь я посетил…
Тот же дворик в Острове, только другой дом — наискосок, мимо скамеечек и фонтана. И ни одной бабульки, только однажды краем глаза Крис заметил шевельнувшуюся в окне занавеску.
Девочка Даша шла нагнув голову, будто что-то высматривала под ногами.
Дверь — на первом этаже, обитая дерматином добротно, но уже давно, по сгибам осыпается… и ручка замка висит косо, разболталась…
Даша открыла дверь, вошла. Крис и Альберт шагнули следом. Сильный запах табака и лекарств.
— Дедушка! Молчание.
— Ты где?
Ничего в ответ.
Альберт достал пистолет, быстро передернул затвор. Шагнул из кургузой прихожей в комнату. Остановился.
Крис жестом отстранил девочку, вошел следом.
Полки с книгами — во всю стену. Заваленный бумагами стол, древняя пишущая машинка с еще заправленной страницей. Диван, две подушки. Комод, зеркало на комоде. Вешалка и куча одежды под нею. Два десятка фотографий на стене…
— Руки за голову. Не шевелиться. Брось пистолет.
— Он на взводе.
— Выбрось обойму и разряди. Одной рукой.
— Дедушка, это…
— Дарья, в сторону. А вы — повернитесь медленно. Кто такие есть?
Куча одежды оказалась стариком в инвалидном кресле. В руках он держал короткий двуствольный обрез.
— Вы — Максим Адрианович Ткач, он же Вебер. Так? — спросил Альберт. — Тогда фамилия Вулич вам должна что-то говорить…
— Вулич? А ну-ка ты, с пистолетом, встань в профиль. Дети, что ли?
— Да. Дети.
— Бог ты мой! Как улетает время… Дарья, кинь чего-нибудь на стол — что найдешь… Катеньку помянуть надо…
Старик сказал это так надтреснуто и стеклянно, что показалось: сейчас он рассыплется мелкими мутными кубиками, как перекаленное стекло. Но нет, он лишь положил свой обрез на колени, обхватил руками ободья колес — кисти у него были несоразмерно большие, пятнистые, узловатые — и выкатил кресло не середину комнаты.
— За диваном, внизу — выключатель, — сказал он Крису. — Щелкните им.
— Там еще какая-то лампочка горит, — сообщил Крис, перегнувшись. — Так надо?
— Ее и надо выключить. Ну, что вы там возитесь?
— Уже все. А что это такое?
— Вам не говорили, что бывает с теми, кто слишком много знает? Посмотрите на меня…
Пришла девочка, поставила на стол открытую бутылку, четыре рюмки, блюдце с кусочками черного хлеба. Налила всем, даже себе — на донышко.
— Прощай, Катюха, — сказал дед. — Ну да ничего, скоро увидимся… А что до убийц твоих — так на то Мишка окаянный есть, они у него на этом свете не задержатся. Засветила ты их, Катька, умница, золото мое, и пометила… теперь им не уйти. Спи, спи спокойно.
— В общем, мое мнение такое, — подытожил Терешков-старый. — Делать вам тут сейчас, в сущности, нечего. Конечно, можно сказать так:
почему бы не погулять по минному полю, раз погоды позволяют? Васильки потоптать? Но лучше не рисковать зря. Поэтому — медленно, на цыпочках, ничего не трогая, никого не задевая…
— Обидно, — сказал Терешков-молодой, рассматривая потолок землянки. Он лежал на брезентовой раскладушке, закинув руки за голову. — Ну что ж. Позиционная война — тоже война. Да, было бы наивно думать, что можно так: за три дня создать лучшее будущее, а потом вернуться в Республику и заняться другими делами: строить, испытывать…
— Писать книжки, — подсказал Марков. Он все еще не мог согреться, сидел под двумя одеялами и легким овчинным кожушком, пил горячий чай с медом и ромом, но все равно время от времени начинал стучать зубами.
— Хотя бы и книжки, — согласился Терешков. — Только мне это не по зубам, наверное… Но я о другом. Да, надо понять, что дело это будет долгим и трудным, требующим тебя всего и навсегда. Как… просто как жизнь. Да. Надо понять и принять. Я прав?
— Не знаю, — сказал Терешков-старый. — Моя бы воля, плюнул бы на все… а впрочем, нет, не знаю. Никто ж за шивороток не тянул… да сами все поймете. Вот: хотел бы, может, выбраться из всего этого, а — шалишь… держит. Не отпускает. И волен я тут что-то переменить или нет — уже и не разобрать. Так-то.
— Ну вот сейчас — что ты делаешь? — спросил Марков. — Сидишь здесь третий месяц…
— Жду, когда они кольцо начнут замыкать. Сейчас гробы расставлены такими маленькими группками, с промежутками — чтобы огонь, если вдруг почему-то загорится, на соседние не перекинулся. Разумная мера… Но я думаю, что вот-вот они решат отправлять все добро, потому что уже не помещается. Эх, ребята, не увидите вы, сколько здесь всего собрано…
— Ну почему же не увидят? — вдруг спросил кто-то, и брезент, прикрывающий вход, отлетел в сторону. Три ствола уставились немигающими глазками, а поверх возникла круглая веселая розовая рожа с вывернутыми губами, и еще два ничем не примечательных лица сзади и по бокам…— Кое-что успеют увидеть. Обувайся, пошли. Глупостей не делать, больнее будет.
«Спецотдел Д» достался Максиму Адриановичу почти случайно, возможно даже, что волей каких-то неизвестных писарей. Может быть, сыграла роль и немецкая фамилия. Так или иначе, но исчезнувший во время прогулки под парусом (так решил Центр) молодой шведский инженер-электрик воскрес не в виде аналитика этого самого Центра, как предполагалось, и не в виде преподавателя высших разведывательных курсов, на что он втайне рассчитывал сам, а начальником «спецотстойника» и «дурдома» — так между собой называли «Д» даже его сотрудники, кадровик успокоил Вебера: это ненадолго, месяц-два, заткнуть дыру, потом найдем замену…
Уже через год Максим Адрианович перестал напоминать руководству о переводе, через три — был убежден, что ничем более интересным и важным не занимался и заниматься не будет, через десять — впал в отчаяние, ибо нет ничего тяжелее полного знания и понимания происходящего с одновременной абсолютной немотой и скованностью по рукам и ногам. Потом и это прошло: Максим Адрианович смотрел в неминуемое будущее с прохладным спокойствием стоика.
Как предсказаниям Кассандры никто не верил до самой последней минуты — так и все выкладки «дурдома» априори считались безумными…
Ну скажите, кому из начальства, сколько-нибудь ценящего удобное мягкое кресло и наличие в нем собственной задницы, придет на ум выделять силы и средства для поиска среди двухсот с лишним миллионов советских граждан нескольких десятков — а может быть, и просто нескольких — лиц, живущих непозволительно долго? Тем более что такая продолжительность жизни (а имелось в виду: сто пятьдесят и более лет) противоречит данным Науки. Следовательно, тот, кто утверждает, что такое может быть, на самом деле делает что? Совершенно верно: льет воду на мельницу антинаучного мракобесия. И, прекрасно понимая это, старички — очень молодые и бодрые — почти не скрываются…