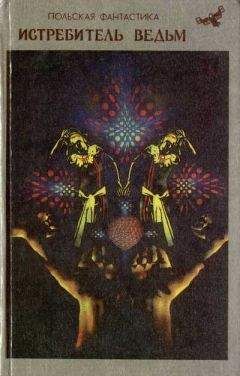Конечно, если бы кто узнал про утреннюю мою заначку, так разметали бы и солому, и толь, и жесть, а случись, так и плиты бетонные. Люди ж — звери, когда у них жажда. А жажда у них всегда. Потому похмеляюсь я с оглядкой, тайком. Это во-первых. А во вторых… Че-то забыл. С чего я начал-то?… Да и хрен с ним. Все равно такое редко бывает, чтобы хватило денег и вечером погулять и утром полечиться. Никогда почти не хватает.
Но в этот раз хватило. Спасибо Казбеку — платит за вытяжки по-царски, хоть и разогнуться потом два дня не можешь. Да нам и не надо! Крыша над головой есть — вот она, над самым носом висит, на ветру качается. Бутылка «Балтики», девятого номера, крепкого, как брага, протекла с утра по измученным жилочкам и успокоила. Для чего же разгибаться? Лежи, отдыхай! Снаружи солнышко жесть прогревает — тепло так, что и спину отпустило, и ногу. Туман в голове, дрема…
Вдруг слышу — вроде как хнычет кто-то. Горько так всхлипывает. Да не дитё и не баба какая-нибудь, а взрослый мужик, по голосу судя. Оно, конечно, тоже не в диковину. Мало ли всякой рвани тут, на пустыре, ночует. И у каждого горе свое или болячка. От той же вытяжки иной раз не то что всхлипнешь — белугой заревешь!
Ладно, думаю, похнычешь — перестанешь. Лежу себе. Только чувствую — не на шутку человек разошелся. Прямо в три ручья обливается! Аж жалко стало. Жалко, что ни черта мне отсюда не видно. Тихонько толь отодвигаю — один хрен, не разглядеть. А он заливается!
— Э! — голос подаю, — певец! Ты че, в натуре, вшей хоронишь?
Слышу — притих, затаился.
Нет уж, братуха, ты у меня тут не затаивайся. Мне такие соседи даром не нужны. Еще откинет копыта, нюхай потом его…
— Не хочешь разговаривать, так проходи своей дорогой! Чего застрял-то?
Молчит, только шмыгает. Придется, все-таки посмотреть, что за зверь…
Выползаю на свет божий из уютного гнезда. В спине, понятно, опять сверло проворачивает, ногу по живому дерет. А, чтоб те сдохнуть, плаксивому! Вырвал-таки из тепла! Вон, захныкал опять. А всей беды-то, поди — жена заначку отняла…
Обхожу кругом шалашика своего прямо так, на четвереньках, будто пес вокруг будки, только что не на цепи. Вижу — точно, как раз там, где я и думал — в бурьянной канавке позади хибары — лежит он, дрын с коленками, длинный, худой, плечми трясет да ногой в ботинке рваном по глине елозит. Нет, думаю, ни женой, ни заначкой тут и не пахнет. Такая же пьянь подзаборная, как и я, даже еще горше. Штаны вон обремканы по самую задницу, ноги голые торчат. Да и сверху намотано что-то, больше из дыр, чем из тряпья. Такого-то доходягу даже я могу шугануть!
— Ну, чего развылся тут? — шумлю, — заткнись!
Дрожит весь, блестит испуганно глазом из-под косм. И хочет рот закрыть, да через губенки стиснутые снова:
— Ыыыы…
— Молчи, мать твою! Задавлю, глиста сопливая!
— Не мо… гу, — икает, — это рефлек-торное…
Ну так бы и съездил по самой гнусавке!
— Еще раз это слово услышу от тебя — не обижайся. Перешибу пополам!
— Не на-до, — всхлипывает, — я не бу-ду.
— С чего воешь-то? С голодухи, что ли?
Головой крутит.
— Ломает, поди, тебя, торчка? Или с недопою блажишь?
Опять не угадал.
— Тьфу ты! — зло меня берет. — И сытый, и вдетый, и еще недоволен! Живи да радуйся!
Нет, не радуется, только слезы кулаком размазывает.
— Дом у тебя есть? — спрашиваю, — угол какой-нибудь, шалаш?
Кивает неуверенно.
— Вот и дуй домой!
Опять ревет в три ручья.
— Боюсь! Там — он…
— Что, — говорю, — зелененькие заходить стали? С рожками? Это в нашем деле бывает. Ничего, привыкнешь. Как в следующий раз черти появятся…
— Да какие там черти, Сергей Павлович! — вдруг говорит он. — Ко мне Стылый приходил!
Я и сел.
Сижу, перед глазами бурьян плывет, рожа эта чумазая разъезжается, а в ушах звенит: «Сер-гей Пав-ло-вич…»
— Что с вами?! — рожа кричит, глаза выпучила.
— Ты меня… как… — и договорить не могу, перехватило дух.
— Вы, разве, не узнали меня? Миша, помните? Диплом у вас делал! А потом — лаборантом…
Дип-лом… Ла-бо-ран-том… Будто в колодце от стен отдается. Знакомый звон, да не знаю, про что… и вдруг страшно, шепотом, в самое ухо: Стылый!
Сразу вспомнилось: вытяжной шкаф в углу, смешанный запах формалина и эссенции, въевшийся в руки, в мебель, в стены лаборатории… Ла-бо-ра-то-ри-и… И человек на стуле передо мной. Бледное, мерцающее в полутьме лицо, будто повисшее над столом отдельно от темного силуэта. Стылый. Мертвые глаза упираются в меня. Черные губы шевелятся беззвучно… Что же он говорил? Что-то страшное и восхитительное… И соблазнительное — крайне… Надо же, забыл. А ведь тогда это казалось самым важным на свете.
«А что взамен? — спросил я, — душу потребуете отдать?»
Я еще не верил, но мне уже очень хотелось поверить. В конце концов, чем черт не шутит?
Но он не шутил.
«Отдать можно то, чем владеешь. Разве ты владеешь своей душой? Разве кто-нибудь из вас — владеет?»
Странно, я совсем не помню его голоса. Только слова. Нет, не слова — мысли. Кажется, он вообще ничего не говорил. Мысли текли из мертвых глаз.
«Если бы души ваши принадлежали вам, вы не знали бы ни страстей, ни обид, ни тайных пороков. Разве сын твой страдал бы так, если бы мог распоряжаться своей душой?»
Сын. Исколотые руки. Разбитое окно. Осколки стекла под ногами. Врачи… Нет, санитары. Колят в спину. Укол… Прикол, пап, правда?…
— Сергей Павлович! Вы слышите?!
— Что?
Бурьян. Дрын с коленками. Сухостой.
— А, Миша… Извини, задумался…
— Теперь вспомнили?
Не дай Бог такое вспомнить …
— Ты, парень, брось это. Не помню я ничего и тебе не советую. Иди себе… Чего расселся?
Завозился он, подтянул костыли свои, встает.
— Куда же я пойду?
— А мое какое дело? Домой иди!
Нахохлился, смотрит мимо меня, в чисто поле. Да чего уж там чистого! Свалка, она и в Африке не клумба. Слева, метров двести, опушка лесопарка. Справа, метров сто пятьдесят, гаражи, а за ними — девятиэтажки торчат. Посередине — мы. А кто мы — кузова битые от «Запоров» да «Москвичат», набросанные там-сям по всему полю, да обломки плит бетонных, да кучи кирпича, тряпья, наплывы гудронные — все, что валили сюда, чтоб далеко не возить. Да бомжи по землянкам — вот и все здешнее население… Не на что тут смотреть.
— Домой мне нельзя, — Миша вздыхает. — Опять Стылый придет…
— А меня не касается!
— К вам ведь тоже приходил…
— Кто тебе сказал?
— Сын ваш …
— Не было у меня сына никогда! Обознался ты, паренек.
— Но как же…
— А так же! Страшно тебе — пойди да напейся. И нечего к людям приставать! Деньги есть?