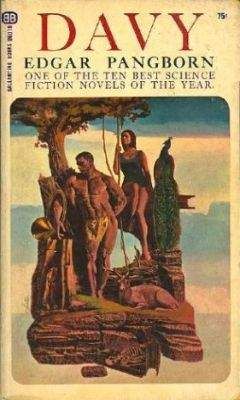Мамочка Лора была согласна с ним. Спокойная и философски настроенная большую часть времени, способная часами сидеть в одной и той же позе, не делая ничего — лишь куря трубку и глядя на природу, — мамочка Лора становилась демоном энергичности в присутствии человека, выказывавшего некоторые наклонности к тому, чтобы немного поучиться. Тогда в ход шло все — сердитая брань; язык, который заставил бы покраснеть моего папу (иногда он и заставлял); сарказм; сдержанная, но чуткая похвала; пощечина — все, вплоть до поцелуя или одного из медово-ореховых леденцов, которые она втайне хранила в собственной каморке и которые никто, кроме нее, не умел делать. Все шло в ход, если она могла надеяться, что это поможет вбить в вашу голову хотя бы капельку истины.
Мамочка Лора была родом из Вейрманта, с юга безмятежного пустынного края, где мы той зимой и квартировали. Название ее родного городишка было Ламой, горный городок вблизи границы с Леванноном. Позже, когда мы проходили там, в Ламой мы заходить не стали, хотя это было процветающее место, и мы могли бы неплохо подзаработать. Мамочка Лора ничего не имела против, но она давным-давно полностью порвала со своим детством, и у нее не было ни малейшего желания снова окунуться в прошлое. Она была дочерью школьного учителя. Я едва смог сдержать изумление, узнав, что в Вейрманте, где Святая Муркан-ская Церковь, разумеется, тоже контролирует все школы, не все учителя обязательно священники. Отец мамочки Лоры был светским человеком, ученым и мечтателем, который втайне дал ей образование, далеко превосходившее рамки тех сведений, которые ему было позволено сообщать другим детям: у него была безумная надежда, что, возможно, когда-нибудь жизнь переменится, и станет возможным, чтобы обычная женщина, не монахиня, преподавала. Это была странная идея, за которую его вполне могли бы выпереть из школы и отрядить к позорному столбу. В приступах мрачного настроения мамочка Лора иногда говорила, что ему повезло, что он умер молодым. В этих же приступах она иногда чувствовала, что его учение попросту было лишним для нее в любом мире, за исключением того, что существовал в его воображении.
Я не понимал в те дни, когда боролся за собственный путь в край знаний, который она открыла для меня, что мамочка Лора жертвовала себя всю без остатка… А какой ребенок когда-либо понимает мотивы, скрывающиеся за неблагодарным учительским трудом, или, если уж на то пошло, ценность самого этого труда? Осмелюсь заявить, что ребенок с такой проницательностью был бы чем-то вроде чудища. Но теперь, когда остались позади наши с Ники двадцать девятые дни рождения, мне кажется, я начал понимать мамочку Лору и ее обучение — теперь, когда мы так волнуемся за дитя, которое носит под сердцем Ники; теперь, когда мы так много думаем о его будущем и так не уверены в том, какой мир придется исследовать этому ребенку.
* * *
На острове Неонархей конец апреля. В последнее время я писал только от случая к случаю, часто очень неохотно, сердясь на принудиловку, которая может как подтолкнуть, так и оттолкнуть от пера человека, в других случаях довольно разумного… Да, черт возьми, кто бы еще, кроме безумца, стал писать книгу? Вероятно, вы заметили, как изменился мой метод повествования некоторое время назад. Это отчасти потому, что разум мой испуган и отвлечен — Ники не слишком хорошо себя чувствует.
Она настаивает на том, что ее боли и недомогание совершенно естественны для седьмого месяца беременности. Опасности этого величественного положения безмерно преувеличиваются, говорит она — она еще ни разу не оставалась без мужа от этого. Ребенок живет и двигается, мы знаем это; часто она хочет, чтобы я тоже почувствовал, как он толкается.
Но есть и еще одна истинная причина, почему я пишу о времени, проведенном с Бродягами, более торопливым стилем — никаких подробных повествований, просто краткое освещение моментов, которые я лучше всего помню. У меня нет желания извиняться. Ваш собственный самый большой недостаток как раз противоположен спешке: я имею в виду ту ужасную неуверенность, безобразную неспособность решить, существуете ли вы. Вы справитесь, если окажетесь в силах. В моих словах — не извинение, в моих словах — сдержанная попытка объясниться.
Это была история, о которой я вынужден написать — внутренне вынужден, побуждаемый той смутной надеждой, что, изложив на бумаге, я смогу лучше понять ее сам. Это была история со ого периода взросления (насколько вообще такое длительное событие может иметь какие-то «периоды»), история мальчика, который переходил из одного состояния в другое, более свободное, хотя, возможно, стал лишь на четверть дюйма выше в смысле физического роста. А теперь эту историю я закончил, к своему собственному удивлению заметив это совсем недавно. Случившееся же со мной, когда я был с Бродягами, происходило с более старшим мальчиком; а история моей встречи с Ники (о которой, я думаю, вскоре расскажу вам) и вовсе произошла с мужчиной. Имеются и другие истории — возможно, подвластные моему перу, а возможно, и нет. Однако — ибо мы плыли по морю; ибо жизнь течет, точно день от рассвета до заката; ибо меня беспокоила множественность времени; ибо я не слышал возражения от вашей тетушки Кассандры и даже от ее желтого кота — эта подлинная история путешествия мальчика неразделимо росла из тех, над теми, под теми, вокруг тех, при помощи тех, с теми и для тех других историй, что обязывает меня закончить и их тоже — хотя бы отчасти. (Спросите вашу тетушку К., как можно закончить что-нибудь «отчасти» — вам придется существовать, чтобы проанализировать и насладиться ученой болтовней, а вы, возможно, и не способны на это.) Я думаю, нет особой нужды объяснять, где всякая история закончилась или отчасти закончилась, поскольку это практически сразу же станет очевидно любому образованному, сострадающему, восприимчивому ученому и джентльмену — или девчонке, — вроде вас.
Просто примите к сведению и, если хотите, запомните, отсюда и до конца книги, когда бы и где бы это ни произошло, мы — я имею в виду себя и вас, а значит, в конце концов, признаю, что вы можете существовать… В общем, мы похожи на людей, закончивших очередной день в дороге и обнаруживших, что здесь, в трактире, у нас еще есть немного времени, чтобы выпить и поболтать перед сном.
* * *
— Посмотрите на него! — сказала мамочка Лора. — Нет, вы только посмотрите на него! Сидит тут со своей рыжей головой, с мозгами навыворот, и пытается сказать мне, что нельзя расколоть инфинитив[30]! Нельзя, нельзя, нельзя, мать-перемать! А почему, Дэви? Почему?
— Ну, в той книге по грамматике написано…