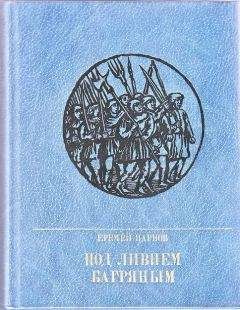Над головой старшего лейтенанта ГБ тонко и печально пересвистывалась с кем-то какая-то невидимая глазу среди сплетения сосновых крон лесная птица. А однажды прямо у его ног на дорожку выскочила дымчато-серая, с рыжим хвостом, белочка. Николай Иванович замер, чтобы не спугнуть зверька, но белочка доверчиво подбежала к нему поближе, встала на задние лапки и осторожно подергала его за брючину, очевидно выпрашивая подачку… Она вовсе не боялась человека! Видно было по всему, что здесь живут и работают одни только хорошие, добрые люди, которых лесные зверьки вовсе не опасаются.
Улыбнувшись этой светлой мысли, Сванидзе хлопнул в ладоши, полюбовался легкими прыжками умчавшейся от него и сердито зацокавшей, замершей вниз головой на сосновом стволе, лесной красавицы и пошел дальше.
Впереди, в меж темно-зеленых лап елей, виднелись по европейски аккуратные домики медицинского центра: отдельные помещения для боксов, где работали с патогенными бактериями и вирусами, серологическая и химическая лаборатории, регистратура…
В уютном, веселой раскраски виварии весело тявкали, протяжно мычали и мелодично, красиво, как видно, на украинском, хором грустно пели подопытные.
Перед застекленным входом, у круглой клумбы, в которой цветы были высажены в виде красной пятиконечной звезды с портретом любимого Наркома посреди, Николая Ивановича ожидал худенький, с огромной плешью человечек в белом лабораторном халате.
— Гутен таг! — вежливо поздоровался Сванидзе с учеником и бывшим ассистентом знаменитого бактериолога, лучшего в Европе специалиста по холере и тифу Рудольфа Вейгла.
— Шолом! — Людвиг Флек, которого переманили из немецкого Laokoon, где он занимался разработкой противотифозной сыворотки, родился сорок два года тому назад в польско-еврейском Львове, и язык родных палестин был ему вовсе не немецкий. Кроме того, и в киевской гимназии, и в Университете он получал свои знания исключительно на свинячьем языке поганых гоев, то есть как это?… а, по-русски.
Так что разговор двух культурных европейцев продолжился на местном туземном диалекте.
— Ну что, любезнейший Людвиг Карлович, каковы ваши успехи? Можно ли вас наконец поздравить?
— Хотел бы принять ваши поздравления, дорогой Николай Иванович, но… Как говорится, знания в лавочке не покупаются…
— Что так? Неужели неудача? — участливо спросил ученого Сванидзе.
— Представьте себе, да! Тот лабораторный подопытный экземпляр, который вы мне намедни передали, оказался чрезвычайно резистентным! Ведь я полагал как: одно распыление аэрозоля, и вот вам желаемый результат, а именно мортус… Нет, ничего не получается… Исключительно живучая оказалась самочка!.. конечно, я бы мог сказать, что попалось перо плохое — но лучше скажу честно, что я пока толком не умею писать!
— А можно ли на неё взглянуть?
— Ой, ну да конечно! Как говорится, на чьей телеге едешь, того и песни поешь! Заходите, пожалуйста! Только вам надо сначала переодеться…
… Спустя некоторое время, Николай Иванович, уже одетый в белоснежный комбинезон, в марлевой маске, закрывавшей его умное и доброе лицо, заглядывал через толстое стекло в бокс, где на широкой и мягкой кровати, надежно зафиксированная гуманными резиновыми широкими, чтобы не нарушать кровообращение конечностей, бинтами металась в горячечном бреду девочка. Мерзавка, написавшая это самое письмо, из-за которого и разгорелся весь сыр-бор… Правда, не будь этого доноса, Николай Иванович мог бы и не увидеть чарующей красоты этих мест и не познакомился бы с такими замечательными людьми, настоящими московскими интеллигентами в лучшем смысле этого слова.
— А что, экземпляр сильно страдает? — сокрушенно спросил старший лейтенант ГБ, не чуждый устаревшего буржуазного гуманизма.
— Да уж есть такое дело… Жар, головные боли, рвота… все по полной программе! А ведь должно было быть совсем иначе: раз, и в дамки! увы, что-то мой токсин плохо сработал…
— И не жалко вам её? Всё-таки, в некотором образе, конечно, она почти что и человек?
Ученый насупился…
— Когда я приступаю к опыту, связанному с гибелью экспериментального животного, я всегда испытываю тяжёлое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что невольно я являюсь палачом живого существа. Когда я разрушаю живое, я глушу в себе едкий упрёк, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный природный механизм. Но! — ученый поднял вверх указательный палец. — Но я стойко переношу это в интересах истины, для пользы многим людям. А меня… мою, да! пусть иной раз вивисекционную деятельность, но направленную для общественной пользы! невежественные обскуранты предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе же с тем истребление и, конечно, мучение живых существ только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания… Расстрелы! Ведь это же бессмысленное расточительство! С того же расстреливаемого можно выкачать почти пять литров крови, которая сейчас просто утекает в канализацию! А его волосы, которые можно использовать для набивки подушек! А тонкая кожа, зачастую украшенная татуировками?
— Ну, уже во время Великой Французской революции существовала какая-то мануфактура, где шили перчатки из кожи гильонтинированных врагов народа! — тонко улыбнулся Николай Иванович. — Ничто не ново под луной… (Действительно! Была такая мануфактура. Упоминается Троцким в «Истории русской революции».)
— Но что же нам делать с вашей резистентной пациенткой? Разве, если она вам, мой дорогой, не нужна, передать её физиологам? — Николай Иванович был по-советски рачителен.
Удрученный неудачей воин большой науки только плечами пожал, мол, забирайте… Если любовь закончилась, она и не начиналась, как мудро отмечает Б-го избранный народ.
1.
Вспугивая диких уток грохотом стосильного мотора М-11, аэроглиссер типа НКЛ-5, что забавно, с бортовым номером тоже «5», построенный еще в 1935 году на Навашинской судоверфи по заказу Наркомлеса, чтобы возить по речкам да болотам (осадка-то всего двадцать сантиметров) начальство, врачей и почту, со свистом рассекая воздух лопастями расположенного на корме катера винта, мчался вниз по тихому Ваду… Мощный, авиационный в прошлом, двигатель сумел разогнать легонькую, полуторатонную машину до немыслимой на реке скорости 60 километров в час… Да что там, на реке! Даже по дорогам на легковой машине свыше сорока километров выжимали только завзятые лихачи. Потому что автомобиль начинало так трясти, что руль из рук вырывался.
А здесь приподнявшийся на редане катер почти всем корпусом вышел из воды, и шел так ровно, что не расплескал бы воду в поставленном на кокпит стакане. Единственное, что опасался сидевший сзади и чуть выше пассажиров механик, это было то, что можно было налететь на топляк, то есть притопленную, невидимую в воде корягу, которая на такой скорости прошила бы обшивку, как шилом!