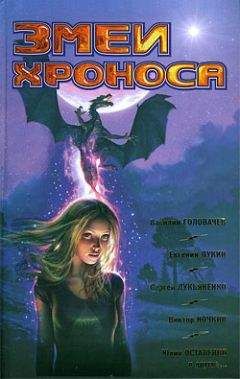– Подсознание, – пробормотал Учитель, – обычно выдает такие перлы... Извините, Матвей, вы действительно думали, что я никогда не разберусь в этом деле?
Я молчал. Я действительно так думал.
– За мной числится пара десятков нераскрытых дел, – продолжал следователь. То ли мне показалось, то ли его голос звучал сейчас немного более благожелательно? – Не потому, что они такие уж сложные... убийства в Израиле простые, как и везде, впрочем... Только нудные очень – сотни допросов, тысячи сопоставлений: кто, с кем, куда... Почти сразу вычисляешь: убил такой-то. Но поди докажи. Улик нет, свидетели путают и врут. А парень пускается в бега, меняет документы... Но здесь-то совсем другое, правда? В этом деле одно из двух: или верить всему, что видишь и слышишь, или не верить ничему и никому и считать, что улики подстроены, а свидетели стоят друг за друга горой, договорившись врать так искусно, что, вопреки логике, не сфальшивили ни разу...
Слишком много он говорит, – подумал я. Видимо, сам себя распаляет – улик у него нет, но предъявить начальству подозреваемого он должен, а кто из нас больше других годится на эту роль? Но ведь не сейчас он начнет меня арестовывать?
– До вашего разговора с мальчиком, – сказал Учитель, – я предполагал, что все вы вводите следствие в заблуждение.
– Что вы поняли из нашего разговора? – довольно грубым тоном спросил я. Мне это не нравилось. Возможно, он все-таки стоял у двери. Может, слушал через замочную скважину. Если сидел за столом, то не мог услышать ничего существенного. Или мог? Слуховые свои способности Учитель мне продемонстрировал.
– Не так уж много... – с сожалением произнес следователь, взгляда я не отвел, так мы и смотрели друг другу в глаза и, кажется, даже не моргали, такая у нас случилась непроизвольная игра в гляделки. – Но днем я внимательно изучил медицинскую карту Гринберга из больничной кассы. Его странные болезни... Поговорил с врачом. С женой и матерью.
– Но больше всего, – продолжал Учитель, заглянув в свой блокнот, найдя в нем какую-то строчку и подчеркнув ее ногтем указательного пальца, – больше всего меня заинтересовал дневник Гринберга, я, честно говоря, искал там указания на возможных... ну, вы понимаете... а обнаружил...
Интересно, что он там понял? Дневников на бумаге Алик не вел, а компьютерные записи были такими схематичными, что даже я, увидев как-то одну из них, с трудом понял, о каком именно событии из своей жизни он решил оставить эту странную метку.
– Так вот и сложилось... – говорил между тем Учитель. – Медицинская карта, намеки жены и матери, ваши слова о Многомирии, дневник, найденный... нет, не в ванне, а в компьютере... ваш разговор с мальчиком... И еще, помните: «Если отбросить все нелепые и неправдоподобные версии, то та, что останется, даже если покажется совсем невероятной, все равно будет истиной»?
Цитата, по-моему, звучала не совсем так, но смысл был понятен, и я кивнул.
– И что мне теперь делать, по-вашему? – спросил Учитель, с треском захлопнул блокнот и откинулся на спинку стула. Слишком резко – стул едва не опрокинулся; прелестная была бы сцена: следователь полиции навзничь падает на пол, остатки чая проливаются ему на грудь, на грохот прибегает Ира, а Анна Наумовна из своей комнаты испуганно кричит: «Господи, что случилось?».
В какой-то из многочисленных ветвей Мультиверса так и произошло, и тот следователь поднимается сейчас с пола, глядя на бурое пятно, расплывшееся на форменной рубашке... Должно быть, какая-то гамма ощущений отразилась на моем лице, Учитель решил, что ощущения эти связаны с заданным им вопросом, и спросил, усиливая эмоциональный нажим:
– Что, я вас спрашиваю?
– Это зависит от того, – сказал я осторожно. Кто его знает, может, он играл со мной, как кошка с мышью, я тут начну распространяться о законах Многомирия, а он прервет меня неожиданным и точно рассчитанным вопросом, я ляпну что-то об Ире, может, о самом себе скажу нечто, совершенно, на мой взгляд, невинное, а он решит, что получил наконец признание или улику, вызовет дежурную машину и полицейского с наручниками... – Это зависит от того, к каким выводам вы пришли, прочитав медицинскую карту, поговорив со всеми... прочитав дневники...
О дневниках я сказал с очевидным даже для Учителя недоверием в голосе, он бросил на меня короткий взгляд, но доказывать ничего не стал, ждал, когда я отвечу на его вопрос.
– На вашем месте, – сказал я, – я закрыл бы это дело по причине полного отсутствия доказательств чьей-то вины.
– По причине... – повторил он. – Говоря юридически: «за отсутствием улик».
– Примерно так, – согласился я.
– И все будут думать – не только сейчас, но до конца ваших дней, – что кто-то из вас убил Алекса Гринберга, но до приезда полиции вы успели сговориться и сумели выгородить убийцу. Вы готовы жить еще... ну, сколько... сорок лет под таким прессом?
– Я? Да.
Какой безумный разговор, Господи! Ни я, ни следователь не называли вещи своими именами, я так и не представлял, играет ли он со мной или вполне серьезно принимает к сведению идею Многомирия. Чего он хотел от меня на самом деле?
– А если, – сказал Учитель, – тот Алекс, который остался в живых... отец этого Игоря... там, я имею в виду... он же понимает, кто и как помог ему спастись... и однажды скажет сыну...
– Никогда! – воскликнул я, и следователь вздрогнул. – Никогда, – повторил я чуть тише, – в какой бы реальности Алик ни оказался, он не поставит своего сына в такие условия, чтобы тот хотя бы начал догадываться...
– Мальчик вырастет, и при его уникальных способностях...
Что мог знать следователь об уникальных способностях Игоря?
– Когда он вырастет, – мрачно произнес я, – пусть решает сам.
– Ну да, – кивнул Учитель. – Сам. Конечно. Каждый сам творец своей судьбы. Пока он вырастет, то сможет и забыть о странном происшествии весенним вечером. Кстати, как вы думаете, Матвей, тот я... Я имею в виду в параллельном мире тоже ведь есть следователь по фамилии Учитель, приехавший разбираться в...
– В чем? – Я пожал плечами. – Там ничего не случилось, верно? Жена поругалась с мужем из-за любовницы. Замахнулась на мужа ножом, но ведь не ударила же! А если ударила, то не попала. А если попала, то ничего при этом не произошло.
– На ноже должна быть кровь, – покачал головой следователь. – Если рассуждать по-вашему. Ей показалось, что не попала, потому что никакой раны, верно... А на ноже – кровь. Представляете, как она испугалась?
Он это говорил серьезно, он действительно думал так, как говорил, или играл со мной по правилам моей игры, ни на минуту не поверив ни в Многомирие, ни в собственное там расследование так и не совершенного преступления?