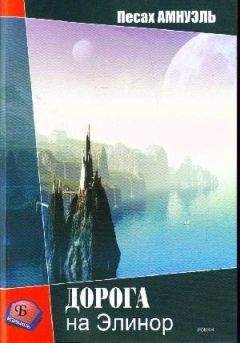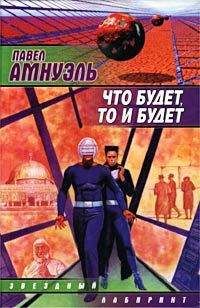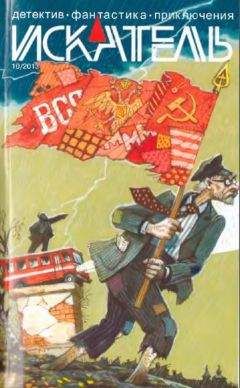Он был собой, но другим, он чувствовал себя старше лет на двадцать, тело было другое, руки-крюки, в голове тупой гул, и с глазами тоже что-то случилось, он не так ясно видел, туман какой-то, не мешавший на самом деле смотреть и различать детали, но висевший подобно прозрачному занавесу.
Комнату он узнал, конечно, — собственную комнату на Шаболовке. И понимание пришло сразу — он подумал, что, когда был без сознания, мысли продолжали себя, для мыслей не нужно пространства-времени, а для сознания нужно. Сознание помещается в мозгу, как птица в клетке. Если клетки нет, то нет и сознания, ему негде быть, но мысль от этого не останавливает своего вечного движения.
Тело… — подумал он. Инертная масса, существующая в четырехмерии. Значит, действительно есть закон природы, включающий сохранение массы не только материальной, но и мысленной, и какое же усилие было проделано кем-то (мной, — подумал он, — кем же еще? Мной, конечно!), чтобы в четырехмерии возникла (для физиков — из ничего!) моя личность с новым двадцатилетним жизненным опытом?
Ему так захотелось этот опыт хотя бы вспомнить, но в дверь кто-то стучал. Он знал, конечно, что стучал сам, тот, кто опубликовал «Элинор», ничего пока не понимавший, и не объяснишь ему сейчас, потому что еще в себе нужно разобраться, в том, как действуют обобщенные законы, он ведь не собирался сюда и сейчас, он — в его собственном, без нового опыта — сознании только что умер, ушел, что-то происходило в большом мироздании, и он это, конечно, поймет…
Он человеком был или кем?
Я хочу стать собой, подумал Терехов.
Я хочу быть собой, думал Терехов, все менее понимая, что это все-таки значит. Он всегда был собой — разве хоть раз предал себя, разве хоть раз делал то, что считал подлым, плохим, искажавшим его человеческую суть?
Сделал, подумал он. Один раз. Только один — когда допустил, чтобы издательство выпустило в свет «Вторжение в Элинор». Теперь он знал, что сам писал роман, пусть это и был Эдуард Ресовцев, другой палец многомерного существа, частью которого являлся и он, Владимир Терехов, все равно это был он, собственной многомерной персоной, но тогда он не знал этого, тогда это был чужой роман, чужой текст, и он присвоил чей-то, не его, жизненный опыт, он ведь знал, что никогда не написал бы ничего такого, не смог бы, текст был выше его умения и понимания, и он совершил подлость, взяв его себе — у мертвого человека, пусть тоже себя, но он не знал этого, не знал, не знал…
Сознание мое не знало, — подумал Терехов, — но в глубине я наверняка понимал, что имею на это право, ведь я имел на это право, тут и говорить не о чем.
Это оправдание? — подумал Терехов. — Кто я? Сознание составляет мою суть или те глубины, в которых не разобраться?
Я хочу быть собой, но кто — я?
Я хочу быть собой — каким стану, выйдя из нашего скованного пространством-временем мира, туда, в большое мироздание. Наверно, это прекрасно — жить во множестве измерений сразу. Так, наверно, чувствуют себя боги. Для себя-прежнего я стану богом, всемогущим и всеведущим, а на самом деле обыкновенным разумным существом — просто мир, в котором я буду жить, бесконечного сложнее того мира, где я жил до сих пор.
Я хочу ощутить это счастье.
Я?
Это буду я? Терехов Владимир Эрнстович, тысяча девятьсот шестьдесят первого года рождения?
Я — это мое сознание, моя память, мой жизненный опыт, моя профессия литератора, моя квартира, мой компьютер, моя любовь и моя ненависть.
И если все это смешается с любовью и ненавистью Дженни, Олега, Эдика, и еще Бог знает какого числа живых и разумных, а еще живых и неразумных, а может, еще и разумных, но не живых, и даже не живых и не разумных вовсе…
И если решения буду принимать не я, Владимир Эрнстович Терехов, а я — бесконечно сильное по земным меркам, бесконечно, по тем же меркам, разумное и бесконечно — Господи, это так, это действительно так! — далекое существо огромного и неощутимого мира, тогда — зачем все?
Зачем я жил? Чтобы стать памятью о самом себе? Зачем любил Алену, Маргариту, а потом Жанну? Чтобы память об этом стала частью чьей-то — моей, да, моей, но все равно чужой — памяти?
Какое мне дело до того, что помнит и чего хочет средний палец на моей правой руке?
Я хочу быть собой, повторил он. Я не хочу становиться собой-другим. Я люблю Дженни, и мне вовсе не безразлично, что раньше она была с Эдиком, который тоже, по сути, я, но она была с ним, а не со мной, и ревность, которую я чувствую по этому поводу, самая настоящая, я не готов опять делить Жанну с кем бы то ни было, не готов терять ее, а я наверняка ее потеряю, если мы с ней станем частью себя, а не личностями, решающими каждый свою судьбу.
Но… Элинор. Мир множества измерений, бесконечных возможностей, мир, частью которого я был всегда, только не понимал этого, а теперь понял.
Эдик выбрал, он не побоялся уйти в большой мир — разве он жалеет об этом?
Ты не жалеешь? — спросил Терехов, зная, что будет услышан и понят.
— Не получилось, — констатировал Пращур, — опять не получилось. Жалко, ох как жалко.
Он сидел, понурый, старый, щеки его обвисли, на подбородке почему-то появилась бородавка, которой раньше не было, и даже костюм — серый, в полоску, тесный, потому что пошит был, похоже, на другого Ресовцева, молодого, более стройного — за прошедшие минуты пообтрепался до такой степени, что место ему теперь было одно — в мусорном ведре. Ткань, конечно, не расползалась, крепкая была ткань, но все же отжила свое. Как и хозяин. Терехов не видел ни разу, но читал в книгах — в готических романах и вялой женской прозе — о людях, «на челе которых лежала печать смерти». Посмотришь на такого человека и сразу точно скажешь — не жилец. Неделя ему осталась или день — не больше.
Пращур выглядел именно так, и Терехов не смог бы объяснить, почему.
— Жалко, — повторил Пращур и попытался выбраться из кресла, цеплялся пальцами за подлокотники, приподнимал свой тяжелый зад, елозил ногами по полу, Терехову стало жаль старика, он поднялся было, чтобы помочь, но справа его ухватила за руки Жанна, а слева цепко взял за плечо — отработанным жестом — Лисовский, он опустился между ними на диван, Жанна прижалась к нему всем телом, что-то шептала, а Лисовский четко произнес Терехову на ухо:
— Нельзя. Трогать его сейчас нельзя. Уходит энергия. И не смотри. Лучше не смотреть.
Пращур старел на глазах. Волосы, серые, будто грязные, стали седыми и посыпались на лоб. Пращур дернул головой, и выпадавшие волосы пылью разлетелись вокруг, растворились в воздухе, который вокруг головы становился все теплее и засветился едва видимым золотистым сиянием, возник нимб и почти сразу исчез, кожа на лице стала морщинистой, глаза запали, и Терехов подумал, что если этот человек сейчас умрет, придется вызывать милицию, и опять у него не будет алиби, он снова станет убийцей, и никому не докажешь…