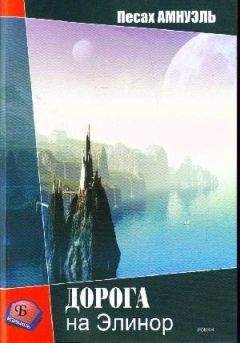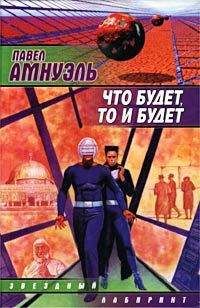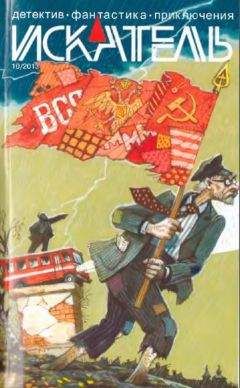— Не помню, чтобы он говорил это вслух. Но когда Эдик ушел, я точно знала, что он попросил меня… Знаешь, я не всегда могла отделить слова от мыслей. Когда мы с Эдиком разговаривали, я не знала, что он говорил для меня, чтобы я слышала, а что представлял себе, и тогда я представляла тоже и могла описать словами, и мне казалось, что слова все-таки были произнесены — Эдик произнес их, но если бы кто-то записал наш разговор на магнитофон, то получились бы долгие перерывы… Понимаешь, что я хочу сказать, Володя?
— Да, — Терехов выключил газ под закипевшим чайником, и слова падали в наступившую тишину, как звонкие теннисные мячики. — Да. Ты готова. За ним. Раствориться. Стать кем-то. А я не готов.
— К чему? — спросил Лисовский, тихо войдя в кухню и остановившись за спиной Терехова. Терехов чувствовал затылком его дыхание и знал, не оборачиваясь, что в руке Олег держал наполовину заполненный бланк допроса, совершенно, вроде бы, теперь неуместный. — Жанна Романовна, вы только что признались, что купили веревку, потому что об этом вас попросил муж, Ресовцев Эдуард Викторович.
Это из-за меня, подумал Терехов. Я не захотел, и мы распались, Эдик сейчас один, ему плохо, и Жанна одна, ей плохо тоже, а Олега что-то повлекло куда-то и оставило на полпути…
— Нет-нет, Владимир Эрнстович, вы решительно не правы, — сказал Лисовский. — Эдуард Викторович все прекрасно объяснил, и я готов… был готов… Наверно, это было во мне с детства. Однако дело есть дело, и его нужно завершить, поставить точку.
Пока он говорил, Жанна вытащила из шкафчика три лучшие чашки («Как ты узнала, где они стоят? — подумал Терехов. — Ты еще ни разу не открывала этот шкафчик!». «Но ведь они стоят именно здесь, — подумала Жанна, — и не создавай лишних сложностей!»), ошпарила их кипятком из чайника, опустила в каждую чашку пакетик «липтона», обнаружив запасы чая и кофе в нижнем ящике кухонного столика, и сахарницу придвинула, обернулась к Лисовскому и сказала:
— Олежек, а кто все-таки в этом деле подозреваемый? Я — потому что купила веревку? Володя — потому что опубликовал роман? Эдик — потому что подготовил все это? Или ты — потому что занялся расследованием и соединил то, что не следовало соединять?
— Я? — растерянно произнес Лисовский. Он подошел к столику, положил на него лист протокола, взял чашку, налил в нее до верха из чайника, сахар сыпать не стал и не стал дожидаться, пока вода потемнеет, сделал несколько глотков, поставил чашку на лист бумаги, пролив несколько капель, и все это время в голове у следователя происходила мыслительная работа, которую Терехов ощущал, как тяжелое движение чего-то в чем-то, но не мог распознать, расслышать, вмешаться, объяснить или самому понять то, что хотел, возможно, объяснить Лисовский.
— Жанна Романовна, почему вы думаете, что я — убийца вашего мужа? — спросил он наконец.
— Потому, — спокойно сказала Жанна, — что ты готовил себя к этому всю жизнь.
— Да?
— Когда ты впервые решил, что станешь разгадывать загадки и сделаешь это своей профессией?
— Ну… лет в шесть, наверное. Что в этом такого? Мой друг, к примеру, хотел стать обходчиком.
— Путевым обходчиком?
— Нет, обходчиком в зоопарке. Обходить клетки и следить, чтобы со зверями все было в порядке. Не кормить, не мыть, не лечить — просто обходить и смотреть.
— А ты — разгадывать загадки. Когда твои загадки начали принимать криминальный характер?
— Ну… лет в двенадцать.
— Интерес к расследованиям вообще или конкретно к какому-то типу преступлений? — продолжала допытываться Жанна. — Ты читал книги? Детективы? Конан Дойла, Кристи?
— Нет, — усмехнулся Лисовский, — читать я тогда не любил и почти не читал — даже по школьной программе. И… Вы… Ты права, пожалуй. Теперь, когда я это вспоминаю, то все понимаю иначе. Мне всегда хотелось разгадать такую загадку, какую разгадать невозможно. Не то что никто не может, а я такой умный… Я не считал себя умнее всех. Нет, загадку разгадать вообще должно быть невозможно. Я придумывал такие загадки. Точнее — модели преступлений.
— Тебе бы не в детективы, а в детективщики! — вырвалось у Терехова.
— В них всегда нарушались какие-нибудь законы природы, — говорил Олег, — и потому такие преступления были нераскрываемы. В принципе.
— Нет, — с сожалением сказал Терехов, — это уже фантастика, причем ненаучная…
Жанна бросила на него взгляд, и он замолчал, поняв, что разговор происходил минимум на двух уровнях, и то, что Лисовский произносил вслух, было лишь внешней канвой, а смысл оставался в мыслях. Терехов подошел ближе, будто расстояние играло какую-то роль, и перспектива исказилась, стол, на котором стояли чайник и чашки, стал маленьким, игрушечным, хотя и находился рядом, а окно и крыши домов увеличились — будто смотришь в сильный бинокль, — видны стали даже отдельные песчинки на ржавых железных скатах, но это не имело значения, потому что одновременно приблизилось, стало ощутимым, как собственное воспоминание, далекое прошлое Олега, детство, школьные годы, а потом студенчество, и Терехов понял то, чего сам Олег долго понять не мог — всю сознательную жизнь он действительно шел к тому, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте и получить расследование дела, о сути которого знал еще тогда, когда молодой Эдик Ресовцев впервые задумался над природой многомерного мироздания.
Они шли по жизни вместе, им только казалось, что дороги их не пересекались. Если бы в двенадцать лет Олег Лисовский не бросил шахматную секцию, он, возможно, стал бы шахматистом, тренер прочил ему большое будущее и называл «юным Карповым». Но он бросил шахматы неожиданно для всех и — для себя тоже, принес как-то домой книгу по теории дебютов, расставил на доске фигуры и вдруг подумал, что это ему совсем не нужно, не тем он должен в жизни заниматься, и он закрыл книгу, сложил фигуры в картонную коробку, будто отправил в тюрьму на пожизненное заключение, и никогда больше в шахматы не играл.
Сколько было в его жизни неожиданных решений, каждое из которых так или иначе заставляло Олега сворачивать на нужную дорогу? Будто идешь по огромному полю, расчерченному миллионом разветвляющихся тропинок, выбираешь одну и сворачиваешь, а через минуту очередная развилка опять заставляет тебя принять решение, и ты, не раздумывая, делаешь так, чтобы, пройдя миллионы моментов выбора, оказаться в той жизненной точке, которой ты не смог бы достичь, если бы хоть раз ошибся в направлении. Хоть раз из миллиона.
Помнишь дипломную на втором курсе? Тебя попросил помочь Ефим Редковский, ты его и не знал совсем — он оканчивал вуз, но о твоих способностях наслышан был весь факультет. Ефим заплатил… сколько же? Обычную твою ставку или двойную — ведь речь шла о дипломной работе, а не о курсовой, за которую ты брал червонец?