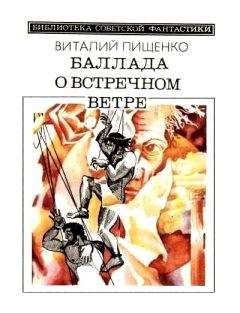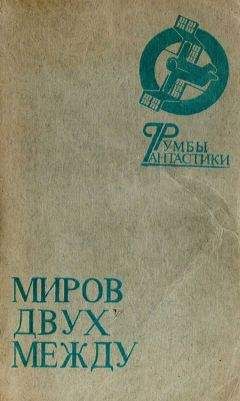— Вот, смотри вдоль грани, — сказал Сережа. — Туда смотри, вглубь. Зря ты это затеял… Смотри, а потом, если не передумаешь, иди.
Я добился своего, и Сережу мне стало немного жаль. Он имел и дал мне то, чем не мог воспользоваться сам. Я хотел сказать ему какие-нибудь добрые слова, но ничего не смог придумать. Не до того мне было. Я вплотную приблизился к гладкой поверхности кристалла и стал смотреть.
И ничего не увидел, кроме своего отражения. Мы долго смотрели друг другу в глаза, я и мое отражение. А потом в зрачках отражения мелькнула неясная тень. Я сразу догадался, кто это, и едва не вскрикнул. Тень пропала. Вместо нее я увидел множество крохотных людских фигурок, волокущих каменные глыбы. Они укладывали глыбы одна на другую, с невероятной быстротой выстраивая стену, и скоро она была готова. Фигурки пропали, стена отдалилась, и стало ясно, что она окружает стоящий на равнине огромный город. Вдали виднелась гряда пологих холмов, а еще дальше неясно синел многовершинный горный хребет. Город отдалялся и стал едва заметен у подножия гор. Послышался глухой рокот разбивающихся о берег волн, звон металла и крики. Черные крутобокие суда по волнам неслись к берегу. Длинные весла разом вспарывали воду. Брызги попали мне на лицо, и я зажмурился. А когда протер глаза, передо мной была дорога, прихотливо вьющаяся среди поросших кустарником холмов. Я шагнул, и ноги по щиколотку погрузились в горячую шелковистую пыль.
Небо было того экономического немаркого цвета, который жены выбирают для рубашек нелюбимых мужей, а комендант общежитий — для панелей в коридорах. Дорога была прямохожей и прямоезжей, вдрызг разбитой. На обочинах валялись обломки надежд и разбитые судьбы.
Надежды еще посверкивали кое-где радужным сквозь ржавчину, а судьбы топорщились гнутой арматурой. Кто-то в сером на склоне холма пытался выправить арматуру своей судьбы газовой горелкой.
Дорога была бы обычной…
Следы велосипедных шин, копыт, кроссовок, колесниц, гусениц, рифленых подошв (“Саламандра”), лаптей, онучей, сандалий и женских шпилек покрывали ее многослойными письменами.
Читать их я не умел.
Дорога была бы обычной, если бы не одна строчка, выписанная легчайшими, глубиной в одну пылинку, следами босых ног тридцать четвертого размера.
Вероника!
Она здесь прошла. Это ее следы, и шрамик от пореза на левой пятке. Прошлым летом в Гагре она наступила на стекло. Она могла в долю секунды заживить ранку, но не стала этого делать. Я нес ее с пляжа на руках. Теплую, родную, пахнущую морем и солнцем, очень тихую и нежную, и чувствовал… Черта с два объяснишь, что чувствовал! Южные люди останавливали свои витриноподобные авто и предлагали помощь, продавщицы киосков с газводой выглядывали из-за павлиньих перьев и зеленели от зависти, а вскоре весь город высыпал на улицу и, стоя на тротуарах, смотрел, как я несу мою Веронику. Я нес ее, и не было усталости. Я готов был нести ее на край света, но принес в дом, в котором мы снимали комнату у славного армянина Макар Макарыча. Ночью я протянул руку за окно, и самая крупная звезда из зенита скатилась мне на ладонь.
А потом наступило утро, и у меня ныли мышцы на руках. Я хотел найти звезду, чтобы водрузить ее на место, пока никто не заметил пропажу, но она куда-то подевалась. На улице слишком многие обращали на нас внимание, и мне это не нравилось. Я увез Веронику домой.
Не тогда ли начались осенние мелкие дожди?
А ведь верно! Как это я раньше не догадался! Неужто кто-нибудь из тех попсовых пляжных мальчиков, что материализовывались рядом с Вероникой, стоило мне на минуту ее оставить?
Я замедлил шаг, остановился, но в это время впереди, из-за поворота послышался голос, который я узнаю среди тысячи голосов, журчащий смех, между деревьями мелькнуло знакомое платье…
Вероника!
Сзади рявкнул клаксон, я отскочил в сторону, споткнулся о чью-то надежду и упал. Мимо пролетел кто-то одетый в белые “Жигули” девятой модели. Кажется, это был Марк Клавдий Марцелл. Следы Вероники пылью поднялись над дорогой и щекотали ноздри. Я чихнул. Марк Клавдий Марцелл обдал меня напоследок облаком едкого презрения и скрылся за поворотом.
В следующее мгновение я обнаружил себя несущимся в ту сторону, где, удаляясь, звенели и звенели колокольчики вероникиного смеха, еще слышные за ревом мотора.
Сразу за поворотом начинался спуск. У подножия, растопыренными руками загораживая мне путь, стоял этот модный бело-жигулевый тип.
Мне некогда было разбираться, Марк Клавдий Марцелл это или кто другой. Мне преграждали путь, и этого было достаточно. И смех Вероники был уже едва различим.
Лишь секунду помедлив, я плотнее нахлобучил гривастый шлем, перебросил тяжелое копье с руки на руку и ринулся вниз, все быстрее и быстрее, разгоняясь на крутом склоне холма, и скоро ноги уже не успевали за стремительным движением вперед закованного в сверкающую медь туловища, и вот тогда…
…родился вопль. Шестьдесят глоток одновременно извергли из глубин существа оглушительное “И-а-э-х!” Живой таран-черепаха, шестьдесят человек, по шесть в ряд, сверху и с боков прикрывшись щитами, в середине сосновое бревно, летел к воротам. И уже не было мыслей, не было боли, было одно стремление, одна страсть: бежать, орать, добежать, протаранить ворота, а уж там…
До судорог в скулах желанное там!
Вперед и быстрее, сквозь ливень стрел. Кто упал, тот погиб. Желанием ты уже там, за стенами, так добеги до себя! Нет силы, способной остановить лавину железа и страсти.
С оглушительным “И-а-э-х!” черепаха врезалась в ворота, они затрещали, но выстояли. И еще раз “И-а-э-х!”, и еще, но уже слабее, с каждым разом слабее. А сверху, со стен, — возмездие: камни, горящие клочья, кипящее масло, помои.
Черепаха распалась, кричали раненые, живые искали пути к спасению. Прижавшись к стене, можно было уберечься от камнепада, но масло, кипящее оливковое масло доставало и здесь. Те, у кого не хватило выдержки или сообразительности, выбегали на открытое пространство, устремляясь к лагерю, и падали, пораженные в спину меткими защитниками стен.
Я остался один. Я бился с воротами, честная схватка — один на один.
Я ломился в ворота и чувствовал — поддаются! Я был уже там, мщение обидчику и жажда забрать свое, но забрезжила вдруг предательская мыслишка — дальше что, приятель? — и обрушилась тотчас боль обожженной маслом кожи, заныли уши, и ворота отбросили меня прочь.
Я вжался в крохотное углубление в стене. Не я вжался, тело, так не вовремя вспомнившее о себе, искало эту спасительную щербину в каменном монолите и нашло, и вжалось, растеклось, слилось со, стеной, и только потом все это отметил рассудок.